«Фонтан» Марианны Гончаровой (журнал одного автора) №102 (305) – весь номер на одной странице

Читатели, надеюсь, помнят, что после выхода нашего юбилейного 300-го «Фонтана» мы обещали в дальнейшем некоторые наши номера делать, так сказать, именными.
И один (январский) даже выпустили. Автором всех текстов в нем был наш многолетний автор и друг незабвенный Георгий Голубенко.
Сегодняшний (апрельский) номер тоже именной.
Автор всех материалов в нем тоже наш постоянный автор и прекрасный друг – Марианна Гончарова.
Увы, тоже безвременно покинувшая этот, мало, как выяснилось, приспособленный для нормальной жизни, мир…
Мы обязательно продолжим выпуск именных номеров. В них будут и другие наши любимые авторы – и (за почти тридцать лет жизни журнала) ушедшие, и, те, кто продолжает, дай им Б-г здоровья, жить и писать свои замечательные, украшающие страницы «Фонтана», рассказы, стихи, миниатюры, афоризмы…
Сегодня же наш автор – Марианна Гончарова.
Не сомневаюсь, что читатели получат огромное удовольствие и от чтения уже знакомых рассказов Марианны и тех, что прочтут впервые.
И еще раз испытают печаль от ее такого неожиданного трагического ухода…
Наше более чем двадцатилетнее сотрудничество с Марианной Гончаровой началось с того, что в начале 2000-ых в редакцию пришло вот такое письмо:
«Здравствуйте уважаемый редактор «Фонтана». Пишет вам Марианна. Так у нас в Черновцах зовут каждую вторую козу. А вчера я встретила на улице веселую лошадь. Мы полчаса с ней рядом стояли и ржали. Уже не помню над чем…»
Дальше Марианна писала, что читает «Фонтан» и что он ей нравится. Собственно, это все.
Я ей тут же ответил. Написал, что, судя по началу письма, она, возможно, сама что-то сочиняет. И если да, то попросил немедленно что-нибудь прислать. Через несколько дней я получил от нее рассказ. И в очередном номере журнала он был напечатан…
С тех пор Марианна Гончарова была постоянным автором одесского журнала «Фонтан» и моим близким другом. И все эти годы я был редактором ее книг.

Вот аннотация к одной из них:
«За двадцать лет литературной работы Марианна Гончарова написала чуть ли не два десятка книг – несколько книжек рассказов, три книги повестей и даже один роман. Книги разные, о разном, но стоит открыть обложку, тут же убеждаешься, что автор всех этих тонких, лирических и одновременно веселых литературных шедевров – именно она, Марианна Гончарова. В ней, созданный автором удивительный мир, продолжает открывать свои тайны…
Фейерверк лиц и характеров, чудесных случаев и неожиданных встреч.
Попутчики, прохожие, идущие навстречу, идущие мимо, идущие вместе с автором рядом… И рядом с ними, с людьми, животные и птицы, так похожие на людей.
Иногда даже лучше, гораздо лучше…»
Марианна получала десятки прекрасных откликов на свои книги. Я их собирал, ей самой и в голову не пришло этим заниматься…
Вот фрагмент одного из них:
Опубликовано, кажется, на ОЗОНе под ником ЕНИ
«Я не могу быть объективной, рассказывая о книгах Марианны Борисовны. И оценивать их адекватно тоже не могу. Понимаете, есть книги, читать которые скучно, есть книги, читать которые интересно. А есть ещё другие книги. Читая их, плачешь. И не потому, что жалко кого-то, а вот вроде бы просто так. От пронзительной трогательности, от невнятной какой-то тоски по несбывшемуся, от стеклянно хрупкой, но опасно острой чистоты и искренности, от перехватывающего дыхание восторга... Как будто падаешь в небо. И плачешь, не в силах выдержать столько эмоций одновременно…»
Марианна была удивительно скромным человеком.
И хотя у нее тысячи читателей, она не имела шумной (тем более, скандальной) славы, обеспечивающей авторам большие тиражи и финансовый успех. Она, если можно так выразиться, более талантлива, чем популярна. А если говорить об отношении издательств к авторам в последние годы, то это может звучать так: «Есть писатели, которым платят, а есть, которыми гордятся». Так вот, писателем Гончаровой преимущественно гордятся.
Это, на мой взгляд было одной из причин ее такого раннего ухода: она в течение многих лет была вынуждена совмещать литературную работу с поденщиной преподавателя. Что делать, литературный труд нераскрученнного (простите за жаргон) автора, независмо от масштаба дарования, не может обеспечить ему нормальную жизнь…
Когда исполнилось 9 дней со дня ухода Марианны, я написал в фейсбуке:
«Говорят, она сегодня предстала перед Всевышним…
Конечно, ее сразу захотели направить в рай. Безо всяких судебных церемоний. Ей там заранее было зарезервировано место. Еще при рождении…
Но, думаю, Всевышний попросил сделать для него исключение. Он наверняка захотел не только повидаться с Марианной, но и поговорить. Потому что она была одной из тех немногих, кто напрямую делал Его святое дело на Земле.
Возможно, Он захотел поблагодарить ее…»
Последняя книга Марианны, которая успела выйти при жизни называлась «Когда Луна снимает шляпу…»
К ней был такой эпиграф.
Им и закончу…
«– Как ты?
– Пребываю в благодарности.
– ?!
– Это мой личный протест против устройства мира…»
Будем помнить!..

Зельман, тапочки!
В начале 2006 г в Одессе прошел вечер, посвященный выходу сотого номера журнала «Фонтан». Присутствовали и выходили на сцену авторы журнала.
Вышла и Марианна. И прочитала рассказ «Зельман, тапочки!». И как прочитала!.. Помню, знаменитый тогда (кстати, не менее, чем сегодня!) Янислав Левинзон, попросил у нее автограф. В очереди постоял…

Уезжал Шамис. Сказал – приходите, возьмите, что надо.
Народ потянулся. Прощаться и брать.
Горевоцкие тоже пошли. Оказалось – поздно! На полу в пустой гостиной валялась только стопка нот «Песни советской эстрады», а на подоконнике стояла клетка с попугаем. Горевоцкая, тайная жадина, стала голосить – да зачем же вы уезжаете, кидаться на грудь Шамису, косясь – а вдруг где-нибудь что-нибудь. Шамис, растроганный показательным выступлением Горевоцкой, говорит: что ж вы так поздно, вот посуда была, слоники, правда пять штук, книги, кримплены. А Горевоцкий шаркает ножкой: да что вы, мы так, задаром пришли. После горячих прощаний Горевоцкая уволокла– таки ноты и попугая. Не идти же назад с пустыми руками.
Попугая жако звали Зеленый. Зеленый был серый, пыльный, кое-где битый молью, прожорливый и сварливый. На вопрос, сколько ему лет, Шамис заверил, что Зеленый помнит все волны эмиграции. Даже белую, в двадцатые годы.
Первый день у Горевоцких Зеленый тосковал. Сидел нахохленный, злой. Много ел. Во время еды чавкал, икал и плевался шелухой. Бранился по-птичьи, бегал туда-сюда по клетке и громко топал.
На следующее утро стал звонить. Как телефон и дверной звонок. Да так ловко, что Горевоцкая запарилась бегать то к телефону, то к двери.
Еще через сутки попугай прокричал первые слова:
– Зельман! Тапочки! Надень тапочки, сво-о-лочь!
– Значит, он и у Зельмана жил!.. – заключила Горевоцкая.
Зельман Брониславович Грес был известным в Черновцах квартирным маклером.
Последующие пять дней Зеленый с утра до вечера бормотал схемы и формулы квартирных обменов, добавляя время от времени «Вам как себе», «Побойтеся Бога!», «Моим врагам!» и «Имейте состраданию». Тихое это бормотание внезапно прерывалось истеричным ором:
– Зельман! Тапочки! Надень тапочки, сволочь!
Через неделю в плешивой башке попугая отслоился еще один временной пласт, и Зеленый зажужжал, как бормашина, одновременно противно и гнусаво напевая:
– Она казалась розовой пуши-ны-кой
В оригинальной шубке из песца...
– Заславский! Дантист! – радостно определила Горевоцкая. – Я в молодости у него лечилась, – хвастливо добавила она и мечтательно потянулась.
Зеленый перестал есть и застыл с куском яблока в лапе. Он уставился на Горевоцкую поганым глазом и тем же гнусавым голосом медленно и елейно протянул:
– Хор-роша! Ох как хор-роша!
Горевоцкий тоже посмотрел на жену. Плохо посмотрел. С подозрением.
– Может, он тебя узнал?!
– Да ты что?! – возмутилась Горевоцкая. – Побойся Бога!
– Имейте состраданию! – деловито заявил Зеленый и, громко тюкая клювом, принялся за еду.
Ночью он возился, чесался, медовым голосом говорил пошлости и легкомысленно хохотал разными женскими голосами.
– Бордель! – идентифицировал Горевоцкий, злорадно глядя на жену. – Значит, ты не одна у него лечилась!
От греха попугая решили отдать в другие руки. Недорого. Зеленый, в ожидании участи, продолжал напевать голосом дантиста, внимательно следя за Горевоцкой из-за прутьев клетки:
– Моя снежи-ны-ка!
Моя пуши-ны-ка!
Моя царыца!
Царыца грез!
Вечером пришла покупательница – большая любительница домашних животных. Зеленый пристально взглянул на потенциальную хозяйку, отвернул голову и скептически изрек:
– Ничего особенного! Первый рост, шестидесятый размер!
– Это я шестидесятый размер?! – возмутилась покупательница и, обиженно шваркнув дверью, ушла.
– Магазин готового платья? – предположил Горевоцкий. И тут же засомневался: – Хотя... попугай в магазине...
– А может, Фима Школьник? Он немножко шил... – покраснела Горевоцкая и опустила ресницы.
– Школьник? – подозрительно переспросил Горевоцкий.
Зеленый четко среагировал на ключевое слово «школьник» и завопил:
– Вон из класса! И без родителей можешь не возвращаться!..
– Живой уголок. В сто первой школе, – хором заключили Горевоцкие.
А Зеленый секунду передохнул и заверещал:
– Зельман! Тапочки! Сво-о-лочь!
По городу разнеслась весть, что попугай Горевоцких разговорился и раскрывает секреты прошлого, разоблачает пороки прежних хозяев и при этом матерится голосом бывшего директора сто первой школы.
Из Израиля, Штатов, Австралии, Венесуэлы полетели срочные телеграммы: «Не верьте попугаю! Он все врет!»
Горевоцкие завели себе толстый блокнот, забросили телевизор, каждый вечер садились у клетки с попугаем и записывали компромат на бывших владельцев птицы.
«Морковские, – писал Горевоцкий, – таскали мясо с птицекомбината в ведрах для мусора».
«Реус с любовницей Лидой гнали самогон из батареи центрального отопления».
«Старуха Валентина Грубах, член партии с 1924 года, тайно по ночам принимала клиентов и торговала собой».
«Жеребковский оказался полицаем и предателем, а жена его заложила».
«Сапожник Мостовой, тайный агент НКВД, брал работу на дом и по ночам стучал. Причем не только молотком, но и на соседей».
Однажды Зеленый закашлялся и сказал, знакомо картавя:
– Алес, Наденька! Гэволюция в опасности!
Горевоцкие испуганно переглянулись. А попугай с той поры замолчал. Выговорился.
И только иногда, когда Горевоцкий приходит с работы, попугай устало и грустно произносит:
– Зельман, тапочки! Надень тапочки! – и ласково добавляет: – Сволочь...
Личинка, британцы и принц Ацдрубаль
Есть в Карпатах такой маленький городок – Вижница. Город художников, поэтов и авантюристов. В Вижнице заканчиваются цивилизация, время, мир. И начинается вечность. Дальше, то есть выше, ходят не в туфлях, а в постолах, ездят не на автомобилях, а верхом на крепких лошадях, лечатся не таблетками, а травами, поклоняются духам воды, леса, гор и привораживают любимых. Привораживают, заговаривают, пришёптывают любимых на всю жизнь или на время. Это уже кто как любит. А если от любви страдают, если страдают от любви – распускают косы по плечам, идут в горы и ищут в лесу старую ворожку, что готовит зелья горькие, отворотные. Да мало ли… Сколько там ещё загадок и тайн! В Вижнице заканчиваются рельсы. Обрываются – и всё. Дальше – тишина, небо, горы, таинственный звон и синий цветочек чебрик.
Именно туда, в загадочную Вижницу, и собрались приехать британцы. Точнее, жители Манчестера. Их интересовали белые грибы, травы, местные живописцы, водопады, старинные автокефальные соборы и – горы, горы, горы.
Толмачей для англичан пригласили из нашего агентства. Должны были ехать Асланян, Розенберг и я. Но Асланян и Розенберг подрались в магазине «Дружба народов». Из-за «Беовульфа». На староанглийском. Это было ещё тогда, когда книг не хватало и интеллигентные люди даже дрались за право обладания. Асланян и Розенберг подрались, повалив несколько стеллажей. Их забрали в милицию, и мне пришлось одной ехать за англичанами в Ленинград, а потом сюда, в Вижницу. Конечно, если бы я была в тот момент в магазине «Дружба народов», я бы тоже подралась с Асланяном и Розенбергом. И не исключено, что победила бы. Потому что «Беовульф» – редкость большая и на дороге не валяется.
Вместе со мной в Ленинград за гостями от общественности Черновицкой области выехала самая серьёзная женщина города Черновцы Стефания Фёдоровна Личинка. Личинка – самая серьёзная женщина не только потому, что у неё абсолютное отсутствие чувства юмора. Нет. Самая серьёзная женщина – это общественный статус. Объясняю. Каждый год в канун восьмого марта в Черновицком областном драматическом театре проходит торжественное собрание, посвящённое этому международному дню, о котором другие народы, кроме бывшего советского, имеют смутное представление. В президиуме собрания сидят суровые дядьки в пиджаках, с ответственными лицами. В виде исключения в этот день в президиум сажают трёх женщин. Как правило, одних и тех же. Это профсоюзные деятельницы в костюмах джерси, с навеки залакированными прическами со следами бигуди. Личинка была одной из трёх. Испокон веков в нашем городе их называют самыми серьёзными женщинами Черновцов. А кого же ещё можно посадить в такой президиум?
Вот в такой компании я и выехала поездом в Ленинград. У Личинки в полиэтиленовой сумке под кожу лежала наличность, выданная ей городом для встречи британцев: посещением дворцов, музеев, театров и ресторанов.
Всю дорогу Личинка рассказывала мне, как в юности она не поддавалась на происки империализма. И в ГДР, и в Польше, и в Болгарии. Она поучала меня долго, больно тыча в моё плечо твёрдым профсоюзным пальцем и подозревая меня во всех грядущих грехах. Она воспитывала меня, бесцеремонно называя на «ты», пока в соседнее купе не вошли офицеры. Глаз Личинки заблестел, она завершила воспитательный час, поправила перед зеркалом причёску, вышла из купе и мечтательно уставилась на проплывающие за окном пейзажи. Офицеры зазвенели бутылками и возбуждённо загалдели, приглашая меня и Личинку принять участие в военных увеселительных мероприятиях. Я отказалась резко и сразу. Личинка поломалась и согласилась. Ещё через час Личинка сняла пиджак. И всякую ответственность. Она пела песни своей юности и хохотала. Офицеры поскидывали обувь, бегали к проводнику за стаканами и штопором. И босиком, в форменных брюках и распахнутых кителях, были похожи на пленных немцев.
Гусарская попойка длилась до Ленинграда. Гусары перешли с Личинкой на «ты» и хором пели песню: «Хорошо в степи скакать, свежим воздухом дышать». Личинка разгулялась, но с заветной сумкой при этом не расставалась. Молодец.
Британцы из Манчестера благополучно прилетели и накинулись на Ленинград без объявления войны.
– Скажи им, что я от профсоюза, – требовала Личинка.
– Личинка – от профсоюза! – констатировала я британцам.
– Хорошо, – безразлично кивали британцы.
– Ты сказала? Ты сказала им, что я – профсоюз? – настаивала Личинка.
– Да.
– Ну и что они ответили?
– Они ответили, что хорошо, что вы от профсоюза.
– И всё?! – недоумевала Личинка. – Может, у них есть ко мне какие-нибудь провокационные вопросы?
– У вас есть вопросы к мисс Личинка? – поинтересовалась я.
– Есть! – вдруг активизировался старший группы Дэвид, как оказалось – опытный путешественник, побывавший в СССР несколько раз. – Можно не идти к Авроре, в музей революции и в музей Ленина?
– Можно?.. – спросила я Личинку.
Личинка подняла глаза к небу, посчитала сэкономленные на политической пассивности англичан средства, выданные ей наличностью, и сказав, что это крайне подозрительно, разрешила.
В магазине «Сувениры» на Невском я купила огромный отбойный молоток для своего папы. Это был такой сувенир – шариковая ручка в виде почти метрового отбойного молотка. Папа будет смеяться – решила я и купила это уродище. Личинка прикупила себе бюстик Есенина и осуждающе шипела, что я веду себя крайне подозрительно. Британцы по моему примеру купили отбойные молотки и себе. А потом ещё верёвочные авоськи и меховые шапки-ушанки. Отбойный молоток был громоздкий, хоть и пластмассовый, и не влезал в сумку. Я полдня таскала его на плече. С ним же поволоклась в Кировский театр на «Гаянэ». Уставшие британцы плелись за мной со своими отбойными молотками и в меховых ушанках, похожие на махновцев-стахановцев, только что вышедших из забоя.
– Крайне, крайне подозрительно! – осуждающе кивала головой Личинка и делала вид, что она не с нами.
Пока мы пытались сдать в гардероб авоськи и шапки (молотки у нас не взяли), Личинка пропала. Мы нашли её отбивающейся сумкой от какого-то «не нашего» империалиста, который, приняв её за театральную служащую в её форменном костюме джерси, на разных языках спрашивал, как ему пройти к своему месту. Придя на помощь Личинке, я объяснила империалисту по-английски, куда ему следует пройти и где сесть.
– Скажи ему, что я из профсоюза! – Личинка возмущённо, по-куриному отряхивалась.
– Она из профсоюза, –
послушно отрекомендовала я Личинку.
– А! О!..
Империалист бросился целовать Личинке руки. Она от возмущения вновь замахнулась на него сумкой. Империалист, прижимая руки к сердцу и без конца кланяясь, убыл в указанном ему направлении.
В антракте он появился в нашей ложе, снова кланяясь и извиняясь, и церемонно преподнёс мне красиво запакованную коробочку со словами: «Сувени-и-ир! Португа-а-алия!» Личинка цапнула коробочку и, ловко вытащив из-под кресел папин отбойный молоток, протянула его португальцу: «Сувени-и-ир! СССР!» А мне зашептала:
– Та-а-ак! Вот мы и влипли! Это же приспешник Салазара! Фашист!
– Но в Португалии уже давно нет фашизма! – возмутилась я.
– Может, и нет, но это не даёт тебе право общаться с салазаровским наймитом!
Я горько вздохнула. Наймит был интеллигентен, хорош собой, и во лбу у него явно было несколько качественных высших образований. С изяществом юного князя он поволок отбойный молоток к себе в ложу, послав на прощанье такой отчаянный взгляд, что у меня перехватило дыхание.
В следующий раз приспешник Салазара выскочил на нас в Эрмитаже. Радостно и удивлённо, с сияющими глазами он подпрыгивал и ликовал за спинами моих британцев, размахивая ярким платком, пока я старательно переводила англичанам сведения об экспонатах рыцарского зала. Португалец и сам выглядел бы как рыцарь при дворе короля Артура, если надеть на него доспехи, дать в руки щит и меч Эскалибур. Хотелось называть его «милорд», – он похож был на принца, не осознающего своего высокого положения. Принца по крови, по духу и по воспитанию.
– Та-а-ак… – заподозревала Личинка. – Крайне странно… Ты ему сообщила, что мы собираемся в Эрмитаж?
– Не-ет…
Я сама была удивлена. И обрадована. Империалист наконец назвал своё имя – Ацдрубаль. Его звали Байо Пинто Ацдрубаль. Это было не имя. Песня. Поэма. Через несколько часов шатания по Эрмитажу мы с британцами собрались идти отдыхать в отель. Ацдрубаль увязался за нами. По дороге он пел. Изображал тореро. Танцевал. И без конца целовал мне руки. Личинка шипела и негодовала. Британцы хохотали. У гостиницы под бдительным профсоюзным оком мы с португальцем снова расстались, теперь уже навсегда. Не приходится говорить, что он уносил в своей тонкой и сильной руке моё сердце…
…В цирке шапито, куда мы приехали с англичанами, на арену вышел верблюд. Заносчивый и облезлый, он вышел явно в дурном настроении, всем своим видом демонстрируя презрение к зрителям. Плохо ему было, этому верблюду. То ли несварение, то ли полнолуние, то ли вообще – а ну её, эту жизнь. И я его очень хорошо понимала. Верблюд надменно оглядел публику, выбрал Личинку, оценил её костюм джерси и плюнул. Верблюжий плевок пеной расположился вокруг Личинкиной шеи и улёгся липким боа у неё на плечах. Личинке стало плохо. Она повалилась ко мне на руки, не выпуская сумку с деньгами из цепких пальцев.
– Врача! Врача! – закричали вокруг.
На крик прибежал врач… Им оказался потомок лузитан и Генриха Мореплавателя Байо Пинто Ацдрубаль, принц и воин, отважный рыцарь короля и хранитель Ордена справедливости, правды и красоты. И откачивая мою Личинку, он зашептал:
– Это судьба… – он зашептал. – Судьба! Третий раз! Третий раз мы встретились в этом большом чужом городе! В чужом холодном городе на воде! Это судьба…
И от огорчения, что он шептал это не мне, а Личинке, я проснулась. Поезд стучал на стыках. Тускло горела лампочка в купе. Личинка вскочила и суетливо завозилась, проверяя сумку.
– Я всё напишу в отчёте! – пообещала она, оплёванная в моём сне, но бдительная. – Я всё напишу, когда мы приедем домой, – пообещала самая серьёзная женщина нашего города.
И она написала. Что переводчица, молодая и легкомысленная, которую так неосмотрительно послали встречать важную для города группу, вела себя крайне подозрительно. Подробности занимали три листа.
А я довезла своих британцев в Вижницу и сдала на руки Асланяну и Розенбергу, свободным и помирившимся. В первый же день они потащили британцев смотреть, где заканчиваются рельсы.
Мне же осталось только распустить волосы и пешком отправиться в горы: искать в лесу старую ворожку, пить горькое отворотное зелье. Горькое отворотное зелье – от любви.
Дни времени
(Из старых и новых тетрадей)
*
Хочу уехать куда-нибудь, куда-нибудь далеко, побыть одна.
Например, в монастырь буддийский.
Или в маленький британский городок. Чтоб мелкий бисерный дождик, чтоб запах кофе, ванили, желтые нарциссы вдоль дороги...
Или куда-нибудь в Прибалтику, в Каунас. Сидеть в музее Чюрлиониса, слушать музыку, смотреть картины.
*
Вчера прошла тест «Какой ты город». Я, как оказалось, город-праздник Париж.
Никогда бы не подумала. Всю жизнь строила из себя Лондон. Хм...
*
Мы сидели в «Рандеву». Марина подозвала официанта и стала спрашивать, советоваться, а что бы такое заказать… Говорит, а вот у вас свинина…
Я (легкомысленно и доверчиво): Ой, а мы свиней не едим. У них такие глаза, жалостливые… Их даже догонять не надо. Им не дают никаких шансов совсем…
Марина подумала, говорит, ну ладно, принесите мне телятины…
Я (задумчиво): А телята умеют плакать… Плачут… Слезами…И умные такие…
Марина: А… Вот рыба… (опасливо на меня поглядывая) а вот рыба..
Я уже с готовностью набираю воздуха, чтобы сказать о рыбах…
Марина: Нет. Рыбу – нет… Рыба, она если… Нет, рыбу – нет…
В это время Алеша у меня что-то спрашивает, я отвлекаюсь. Марина шепотом официанту что-то стремительно заказывает и думает, ай, быстро съем, она, эта ненормальная, не заметит… Оказался, кролик…
Словом, о кроликах я сказать не успела… Хотя много чего могла рассказать.
А вот Алеша решил вообще ничего не заказывать. А вдруг я и об овощах могла бы сказать что-то такое… Например, что они пищат, когда их режут…
Да, чуть не забыла. Когда мы с Линой заказали курицу, все как-то успокоились…
*
В поезде ехали, в три часа ночи бодрый женский утренний смех из купе проводников. Диалог:
– Свежо чо-то на уличке, Тоня, свежо, зайка…
– Так ты ж схудла. От тоби и холодно.
(А обе они плотненькие довольно)
– Я вот тоже… попрыбырала, тухли поскладувала, а вин прыходыть и гэто, плаття таке краснэ мэни… Каже, мИрай, Тоня! Я й помИрала, а воно завэлыкэ…
А вин засмиявсь тай кажэ:
Росты, Тоня, ширше!!!
Я их так полюбила этих теток. Милые…
*
Когда чего-то делаешь, например, готовишь у плиты, обязательно о чем-то думаешь. Можно потом спросить:
О чем этот борщ?
А о чем этот салат?
О ком этот пирог?
Про что это пюре?
Об чем эти синенькие?
За что эта фаршированная рыба?
О че-о-о-м дева плачет…
*
Уснула совсем ненадолго, но так крепко! Ах! Так сладко спалось эти минут сорок. Линочка принесла кофе и разбудила: Мару-у-у-сенька! Вставай, в школу опоздаешь.
Нет, ну ведь как здорово… Уходила и кричала мне, что холодно, чтобы я надевала пуховик и шапку. Нет, кто из нас мать?!
*
Я очень хочу написать о Дафнии… Я ее видела в микроскоп в школе. Мы встретились взглядами, и этот факт поразил меня в самое сердце.
*
На выборном участке бродит дедушка и пристает с расспросами, таская повсюду свой бюллетень. Потом остановился у кабинки и задумался – входить-не входить… Раздраженная девушка от комиссии (с интонацией продавщицы уцененных товаров): Ну что, дедушка? Выбрали что-нибудь?
*
Очаг – это дом, где всегда есть свежий горячий суп. Желательно, густой, как любят мои дети зимой и пикантный и холодный – гаспаччо, как любят дети в жару. Дом, это место, куда тянется сердце, где уютно тебе и тепло и спокойно…В нашей квартире есть два маленьких места, где мне приблизительно неплохо…
Первое – это моя спальня, где всегда чистое и разглаженное белье моего цвета, мои спальные носки с медведиками (они по-настоящему спальные, так придуманы, и подарены моей тетечкой из Австралии), мои ночные очки, книга на ночном столике, моя лампа, мои запахи – травы, свежего воздуха, кофе… А второе место – это вот здесь, внизу у компьютера. Комната нижняя освещена каждое утро каким-то нежданным теплым светом. Входишь утром, а там оранжево… Мол, ну где-же ты, я так тебе рада…
*
Позвонила какая-то дама... Говорит: – Это Лариса… Верней, это ЛаГиса… ну, Лагиса… Я еще у вашего отца трениГовалася.
Прошу назвать фамилию. Фамилия мне ни о чем не говорит.
Говорит ЛаГиса, которая тренировалась у моего папы: – Я тоже пишу стихи. Я ей – а я нет, не пишу стихи.
– Ну, а что вы пишете?
– Ничего не пишу.
– Как? Так мне сказали, что вы пишете как этот, который еще про евреев писал…
(А я спокойна – оцените мою крепкую психическую организацию. При том, что в это время я нервно поглядываю на мобильный, потому что жду звонка от сына…)
Хотите, говорит ЛаГиса, почитаю вам… Вы про что хотите? (Тут можно было откланяться, сказать, ой, у меня горит там что-то на сковородке, например. молоко… Но она же не отвяжется) Говорю, ну… что-нибудь лирическое…
Почитала. С надрывом.
– Ну – говорит – и куда мне с этим?
Я бы сказала куда, но такими выражениями не оперирую.
– У меня еще и про Бога есть… Куда же мне это отправить?
Говорю, вы знаете, я там мало понимаю в поэзии… ничего не могу вам посоветовать. Отошлите куда-нибудь…
Она: Не-е-е… Письмо пропадет, я сама отвезу. Перепишу сейчас и отвезу. Сама. В газету сначала. Пусть напечатают, скажу…
*
Напрасно люди посмеиваются над моей верой в знаки. Кроме причинно-следственных связей, есть неуловимые нити, на разных уровнях сознаний, полей, чувств… И кто знает, какие связи важней… Лучше увидеть знак в том, что им не является, чем не увидеть знак вообще…
*
Наша девочка, живущая в Чехословакии, пишет в ЖЖ:
Тут на домах тоже есть таблички, которые у нас гласят «Осторожно, злая собака». Чешский вариант менее пугающий – нарисована собачья морда (овчарка чаще всего) и написано – «Я тут охраняю». На днях я увидела еще один вариант, который привел меня в восторг.
Нарисована морда бультерьера и подпись – «Я добегу до ворот за 5 секунд. А ты?»
*
Прислала знакомая девочка.
– Женщина, почему вы не кушаете?
– Сохраняю фигуру.
– Чтобы сохранить ТАКУЮ фигуру – нужно кушать, и кушать, и кушать!
*
Дедушка-то наш? Еврей чистой воды. Причем, работая на Одесской фабрике игрушек слесарем, ухитрялся не работать по субботам, имея за спиной и немецкие и сталинские лагеря. И в синагогу ходил, и кипу носил, и ножи в доме были разные для разного! И бабушка – одесская махровая еврейка, папина мачеха, кстати. Их уже нет в этом мире. А вот папина родная мама – жива, правда болеет, та самая, что в Одессе на жилмассиве Таирова живет, а раньше – в круглом доме на Греческой... Она – украинка. Все смешалось в нашем доме.
*
Даня рассказывает мне: Мы гуляли с Андрюшкой у озера и видели жабу ОСЛЕПИТЕЛЬНОЙ красоты.
Еще Данька сказал о ком-то: неначатое высшее образование.
*
...Подарю в хорошие добрые руки:
- Огонь голландской печки.
- Взгляд Резо Габриадзе 4 сентября 2004 г. (ох и взгляд!!!)
- Радость, неподдельная, всепоглощающая моей собаки и махание хвостом.
- Смех детворы.
- Аромат мандаринов.
- Летательные сны.
- Шорох-шелест-шепот карпатских сосен.
- Белая дверь в комнату, где елка, подарки и все-все-все!
- Благоухание хороших стихов и хорошей прозы.
- Скрип снега под валеночками годовалого мальчика.
- Голубой дымок из трубы над гуцульской хатой.
- Хрустящий голос Данелия.
- Тишина и свет каплычки в горах.
- Плач Дракона из Перкалаба.
- Ди-и-инь моего ониксового колокольчика, нежный, тихий и чистый динь.
- Танец "Только он и она".
- Кота моего ворожба.
- Мечты Миши Савранского.
- Скрип кресла-качалки.
- Тайны гуцульской окарины.
- Джаз! Джаз! Джаз! Вот это конкретно: « Па-ра-па пэ-э-эу».
- Печаль, которая светла…
*
Читала книгу Марины Дмитревской «Театр Резо Габриадзе». Просто, если бы не лежала, легла бы от смеха, когда в спектакле «Осень нашей весны» птичка Боря Гадай говорит:
«Эх, сейчас бы для полного счастья послушать, как кошку бьют».
Ой, теперь возьму и буду это петь, как народную песню.
*
Туман. Значит, будет солнце. Когда-нибудь.
Чакуня

Ему уже пятнадцать лет – нашему Чаку. Он помесь овчарки с колли. То есть лицо как у немецкой овчарки, а туловище лохматое и рыжее. Роскошный черный воротник на груди, пушистый развесистый приветливый хвост, а главное – добрый, чуткий и умный, как колли. Глаза у него хорошие. Редкие, необычайной красоты у него глаза. Карие, влажные, большие, печальные... Кстати, он умеет подмигивать правым глазом, вот так: эть! эть-эть!
Сколько уж он нас выручал, спасал, оберегал, предупреждал...
Уж сколько он нам котят воспитал, а о наших человеческих детях и не приходится говорить. Вон, двое детей и кот Чемодан – его воспитанники.
Мы его этим летом в лес водили гулять и, конечно, купали после прогулок на всякий случай. Так наш кот прямо изводился от радости, что не его купают, прямо лапы потирал, ха-ха, хи-хи, ага-ага! И такое торжество на морде его вороватой. А Чак огорчался, хотя купаться любит. Ниче-ниче-о-о... – обижался Чак, – ниче-о-о... Ну мы тогда и кота тоже за компанию. А он: меня-то за что?! Я же в лес не ходи-и-ил! А Чак смотрел презрительно и до комментариев не опускался, только подмигивал нам: эть! эть-эть!
И вот приболел наш Чак. Подхватил клеща, бедняга, в лесу, стал шерсть терять, погрустнел, спина облысела. Вызвали ветеринара, кололи инъекциями. Все терпел, мужественный. Потом обстригли его всего. Во-первых, и так лысеет, чего уж тут притворяться, как наш председатель кооператива Йосип Афанасьевич – кумпол совсем как коленочка, но отращивает грядку волос слева, а зачесывает направо, прикрывая макушку. И считается, будто он с шевелюрой. Хотя дизайн этот нехитрый всем понятен. Он же, Йосип, не первый. Как встречаю, так все время волнуюсь за него. Так тревожно. А вдруг ветер?! А вдруг ветер справа?! Ой, глаза б мои не видели.
Словом, обстригли нашего Чака. И чтоб легче уколы было делать, легче мазью обрабатывать, и чтоб не жарко. А случилось наоборот – холодно. Он, бедный, дрожал на утренней прогулке, голенький потому что. Тогда мы на него куртку дочери надели. С надписью на английском «Beauty», то есть «красавица». Красненькую курточку с капюшоном. Чемодан сидит в кресле плетеном, облизывает себя, изогнувшись, и ворчит:
– О! О! Бьюти пошла! О-о-ой, не могу! Ха-ха!
От зависти это. Ему же, толстому, курточка не светит, даже зимой. А Чак с удовольствием в куртке гулял и даже гордился. Косился по сторонам, какое производит впечатление. Нас теперь, кстати, так и можно на даче разыскать, достаточно спросить, а где живут те, у кого голая собачка в красной курточке.
– С капюшоном? Так вон же они.
А когда соседка наша ехидная Ираида Матвеевна спросила: «А чего это у вас собака такая лысая и некрасивая?» – так мы ей сказали, что из собаки нашей человека делаем. И не абы какого, а хорошего и умного. Ираида Матвеевна не поверила и подглядывала за нами, торча макушкой над забором. Подслушивала, как мой сын каждый день с Чаком занимается. Напротив магазинчик небольшой, «Кураж» называется. Даня показывает на вывеску магазинчика и дает команду собаке нашей сообразительной – мол, читай, Чак. И Чак читает:
– Жа-рук... Жарук...
Из-за забора Ираиды Матвеевны – вскрик изумления, ужаса и шорох оседающего тела.
А Чак смотрит на Даньку и хитро подмигивает: эть! эть-эть!
Часовщик
– Эй ты, драсте! – пропищал кто-то за моей спиной. – А который час?
Потом раздался хитрый смешок и веселое похрюкивание.
О! Горецки притопали, отец и сын.
– Здравствуйте, здравствуйте, Горецки! Двенадцать часов десять минут.
– Правильно! – похвалил старший Горецка-часовщик.
Горецка… Наша местная достопримечательность, очень симпатичная и полезная для жизни и порядка нашего города. Францик и Васька. Неразлучная парочка. Сыну лет двенадцать. Он выше своего папы на две головы. Папа у него – гном. Что-что, как-как… А вот так! Гном! Ну гном! Что в этом странного? Вы что, о гномах ничего не слышали? Не-ет, не покемон!!! Скорее хоббит. Хоббитов знаете? Ну вот, он хоббит, но очень небольшой, мелкий хоббит. Карликовый хоббит. Хоббит-лилипут. Симпатичный и ладный. Просто очень маленький. Личико кукольное и румяное. Глаза, брови, уши, рот и нос понатыканы в голову куда попало, но в результате получилось очень даже ничего. Глаза синие с черным ободком. Ресницы пушистые. Ушки острые, как у эльфов. Обаятельный этот Францик Горецка. Но очень уж маленький. Как табуретка. Сейчас-то от этого лечат, дают детям таблеточки разные, дети растут, вырастают. А Францик-часовщик не вырос, так и остался.
Он знаете, какой даровитый?! Рубины в часах меняет за секунду и навечно. Он единственный старинные швейцарские часы взялся реставрировать, часы деда моего мужа, деда Игнация. С таким уважением подошел…Часы огромные, на полстены, с боем. Францик велел положить их на ковер сначала, и лазил по ним, как муравей, ползал, чистил механизм, шуровал там что-то усердно так, сопел, ругался шепотом: «Нет мне покоя, нету!». Потом часы подняли, стремянку пристроили, и на верхнюю ступеньку еще мюллеровские словари, толстые… Четырехтомник. И починил часы. Теперь тикают, бьют, маятник туда-сюда… А часам два века. Францик Горецка… Мастер! Который год в своей мастерской сидит на высоком стуле, с лупой во лбу – чистый гуманоид. И всех на «ты» называет, такая у него за счет его крохотности высокая степень свободы.
– Эй ты, слышь, – кричит он в окошко нашему мэру города, – иди сюда, покажи свои часы, я тебе их почищу… Нет мне покоя…
– Эй ты, – зовет он какого-то местного хлыща – слышь, от чокнутый, что за мода – время на мобильниках смотреть?! Ну ты что, вообще?! Часы купи себе! Часы! Механические часы! Чтоб ти-ка-ли! Не, ну нема покоя, нету!!!
Жена у Францика замечательная – большая, крепкая и выносливая Бируте из Литвы. Медсестра. Когда надевает халат, напоминает белый вместительный холодильник. Промышленный. Говорят же, любовь зла – полюбишь, и все тут. Нет, а что? Она, Бируте, ведь как рассудила? Если высокий стройный блондин или там брюнет, например, это столько хлопот, он же шмыг на сторону, шасть – и все. А в этом Францике росточку – кот наплакал, где посадил, там нашел. И умный, и зарабатывает, и хозяйственный. И шармантный, как сама Бируте говорит. И с характером.
Они когда поженились, природа прямо руками всплеснула, мол, во дают, ну ничего себе!!! Растерялась, засуетилась, забегала… природа… И понятно. У гнома кто может родиться? Только гном. Ну у божьей коровки разве может родиться теленок симментальской породы, белый с рыжими пятнами, с хвостом, игривый? Так и здесь. Но, к счастью, родился обыкновенный Васька с папиными пушистыми ресницами, синими глазами с черным ободком и острыми ушками, спокойный и большой, как мама. И ужасно шармантный. Как папа Францик Горецка.
Которому ничто человеческое не чуждо. Выпивает.
Он по пятницам с друзьями встречается, в баре «Пингвин». И надирается до безобразия. Ему ведь что, разве ж много надо, тяпнул наперсток водки, и вот тебе пожалуйста – уже пьяный. А с ним Петюня Рябка, исполин, грузчик мясокомбината, давний друг, еще с детства. Сидят за рюмочкой, философствуют. Францик: «Время бежит-бежит, а потом раз – и останавливается. А часы, Петюня, – говорит Францик убежденно, – часы – это признак жизни. Тик-так, тик-так! А если нет часов, это все тогда! Ти-ши-на... Надо очень тщательно понимать на часы! Понимать на часы, Петюня, значит понимать на время. А понимать на время значит понимать на жизнь. Понял?!» – с угрозой спрашивает захмелевший Францик. «Понял-понял», – успокаивает друг Петюня Рябка, он понимает, а как же! Особенно друга Францика. Рябка берет маленького часовщика на руки и бережно выносит из бара, а у входа уже ждет Бируте. Она свои шармантные кадры хорошо знает, поэтому ждет терпеливо. Рябка передает пьяненького друга на руки жене, Францик сладко чмокает губами, наваливается головой Бируте на плечо, спит, вздыхая тяжело в воротник: «Нема покоя, нету…» Бируте перехватывает его удобно под коленками и тащит домой. Маленький-то маленький, но крепенький и тяжелый.
Зимой, когда снег, легче. Тогда Васька Горецка, сын Францика, приходит с санками. Отца кладут на них, укутывают старым одеялом и везут…
Францик перед сном сыну, когда тот был совсем маленький, книжки читал. Стихи и сказки детские. По-украински, по-польски, по-русски… Жена его по-русски не очень, не очень… Она ему песенки поет про кукушку, про ветерок там, про сверчка…
А Францик по-русски – сыну Чуковского, ну что обычно все другие родители детям читают.
«Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку, в Африку гулять…»
Это такие специальные страшные стихи Чуковского, чтобы воспитывать в детях отвагу. И чтобы немножко бояться. Дети, знаете ли, вообще-то любят немного бояться, когда неопасно… Понарошку бояться. Мои дети, например, любили сильно побояться, когда рядом мама и папа. И если еще и дедушка, то вообще можно хоть гром. Они тогда прижимались к папе или к деду, вжимали мордашки им в грудь и боялись в свое удовольствие. И все дети так делают. Папа и дед, они ведь большие, сильные.
Ну вот, а тут читает Францик-часовщик Ваське про Ванечку и Манечку, которые сбежали в Африку вечерком. Идиоты такие, куда их родители смотрели… А в Африке там полно всякой несимпатичной живности, которая только и ждет, чтобы кусать, бить и обижать. Ко всему, если повезет, можно встретить Бармалея, а этот вообще из рук вон, хулиган и уголовник… И Ваське, конечно, страшно. И даже не понарошку. А прижиматься к кому? Бируте на дежурстве в больнице. Васька-сын мелкий, Францик-отец еще меньше… Сидят, оба трусятся от страха, дрожат мелко, боятся… Маленькие… Нет покоя, нету…
Вон они, эти Горецки, отец и сын, скорей, сын и отец, потому что сын ведет отца за руку, а не наоборот. Васька идет вприпрыжку. Францик ступает важно, как мандарин китайский, сурово поглядывая по сторонам.
Отец мультяшным голосом:
– Зачем нам новые елочные игрушки, у нас шары есть всякие, большие красные и желтые шары. Большие такие шары.
А сын низко, бархатно:
– Какие же они большие? Они не очень большие. То для вас, татусь, они большие. А так они ж даже почти средние. Даже чуть-чуть маленькие.
– Щас как ты получишь у меня!!! – угрожает Францик-часовщик, закидывая голову назад – щас как дам тебе! Ты как с татком разговариваешь?! Они для всех большие! Шары эти! Не дразнись на меня! – сурово так пищит и кулачком машет. – Нет, нема покоя… Нету…
– Татусь, а татусь! – подлизывается сынок. – А знаете шо?
– Ну? Шо?
– А мне в классе все пацаны завидуют, от шо!
– И чого? – удивляется настороженно татко, действительно, чему там завидовать. – Чого это?!
– А шо у меня татко игрушечный!
Ну, думаю, все, сейчас как разорется Францик-часовщик, как распищится на весь магазин, растопается своими кукольными ногами в детских башмаках, как завоет, что нет ему покоя… А он, знаете, – совсем наоборот! Как расхохочется! Увидел меня опять:
– Эй ты, слышь, у моего Васьки – татко игрушечный! Игрушечный! Я – игрушечный! Хи-хи-хи!
И смеется-похрюкивает, как резиновый ежик, разводя своими маленькими умелыми руками: – Ну нема мне покоя, не-е-ету!!! И-и-и-и-хи-хи-хи!!!
Я с ними немного постояла там, в магазине… Францик рассказывал про время. Как оно бежит-бежит, а потом раз – и останавливается… А потом спохватывается и снова бежит. Поэтому надо иметь часы под рукой, всегда.
На куртке Францика серая собачка. Шапочка полосатая с помпоном и варежки ярко-зеленые на растянутой резиночке. Болтаются из рукавов…
Васькины вещи донашивает, из которых Васька вырос, куртки, и штаны, и башмаки, и варежки…
Тетя Дины Школьник
 На фото: Марианна читает этот рассказ
На фото: Марианна читает этот рассказ
Тетя Дины Школьник, Мириам Моисеевна, живущая в городе Саратове, – Дюймовочка. Сама Дина Школьник – просто эльф, такая маленькая и щуплая. А Мириам Моисеевна – Дине по плечо. Ростом примерно до подоконника. Мириам Моисеевна Школьник, если ее положить в длину, короче даже своего имени. Ну чтобы представить, какая она на самом деле маленькая, то вот: когда она приходит в банк, например, или на почту, то клерки вылезают из своих окошек и перегибаются через барьер, чтобы посмотреть, кто это там пищит резким и требовательным голосом. И чья это крохотная лапка машет им в окошко бумажками.
Кстати, лифт тоже не чувствует ее веса, и Мириам Моисеевне в ее преклонном возрасте приходится подпрыгивать, чтобы лифт закрылся и поехал. Но и это не всегда срабатывает. Когда тетя Дины Школьник не позавтракает, и чтоб плотно и калорийно, подпрыгивай не подпрыгивай – лифт с места не двигается. Не распознает пассажира. Наверное, думает, что кошка какая-то зашла…
Вот какая она маленькая, наша Мириам Моисеевна.
*
Тетя Дины Школьник, Мириам Моисеевна – герой. Маленькая тетя – большой герой. Причем герой она на самом деле. У нее столько медалей и орденов за победу в Отечественной войне, что если их все нацепить ей на пиджачок еще из советского «Детского мира», то тетя Дины Школьник может с такой тяжестью только лежать. Сидеть, стоять, а тем более идти – она не в силах. Маленькая очень. Хрупкая.
*
Да, тетя Дины Школьник во время войны была бесстрашной десантницей. Вот какие бывают чудеса! И часто совершала подвиги. Правда, случайные. Ее сбрасывали в группе десантников с самолета, но никто не учитывал ее невесомости, и героическую тетю Дины Школьник сносило ветром от своей группы куда-то в сторону от условленного места встречи. И пока она добиралась до этого самого места, как и всякий десантник, экипированная взрывчаткой и несколькими гранатами, то успевала немного пошуметь, то есть пустить под откос какой-нибудь немецкий эшелон или поджечь что-нибудь стратегически важное для немцев. А потом тихо и незаметно двигалась туда, где группа уже не знала, что и думать. Ох и боялись ее немцы, ох и боялись! Ведь для того, чтобы поймать, ее надо было сначала найти. А как ее найдешь, такую маленькую?.. Героическая она была девушка, Мириам Моисеевна, тетя Дины Школьник. И ведь как жизнью своей рисковала юной удалой! Маленькая, но великая. Богатырь она, крошка Мириам Моисеевна.
*
Когда Дина выходила замуж, Мириам Моисеевна приехала познакомиться с Диночкиным мужем и немного погостить. Гриша, Диночкин муж, с гордостью притащил к Дине свое бесценное приданое: старинный облупленный кабинетный рояль фирмы «Шредер». Настроенный, действующий. Тетя Дины Школьник Мириам Моисеевна инструмент легонько поколупала под испуганным настороженным взглядом Диночкиного мужа и задумалась. Приданое не понравилось. Она спросила шепотом: «Диночка, что это за семья такая, за кого они нас имеют, у них что, не нашлось мебели поновей?» Вечером с сомнением смотрела и щупала старый рояль.
А в день своего отъезда, когда молодые Диночка и Гриша еще спали, тетя Дины Школьник, Мириам Моисеевна, сделала им сюрприз. Прежде чем незаметно смыться на вокзал и в поезде сидеть и представлять радость молодоженов, она сначала испекла яблочный штрудель, а потом покрасила Гришин рояль пековым черным лаком, оставшимся от покраски чугунных ворот, которые Гриша красил днем раньше. Покрасила и уехала…
Гриша потом так плакал, так бился над загубленным инструментом, мечтал догнать поезд и все сказать Мириам Моисеевне... в общем, сказать, что не даром ее, такую маленькую шкодливую и неуловимую, боялись немцы. «Спасибо вам, – кланялся он испорченному роялю, – Мириам Моисеевна! За доставленную радость, Мириам Моисеевна, старая вы диверсантка! Сюрприз ваш удался!»
*
Тетя Дины Школьник Мириам Моисеевна из Саратова живет жадно, наслаждается всем: весной, телевизором, прогулкой в супермаркет, хорошей сигареткой. Но есть у нее одна пламенная страсть – торговаться. В Саратове продавцы уже хорошо ее знают. Когда она такая маленькая, но решительная подваливает к рынку, продавцы сворачивают торговлю и предупреждают друг друга: «Атас! Десантница пришла. Смывайтесь, кто может». Но не все успевают. Мириам Моисеевна, тетя Дины Школьник, приходит как беда – неожиданно. Стоит себе молочница, расслабилась, размечталась, а тут из-под прилавка кто-то царапается. Молочница перегибается – о ужас, стоит уже! На цыпочках! Тетя Дины Школьник Мириам Моисеевна. Водит любопытным носом, лапку тянет, творог пробовать, сдерживает волнение, с показным равнодушием: «И скок-к-ко?» Но внутри у нее, как у боксера или карточного игрока, уже разгорается огонь азарта. И все – молочнице теперь не отбиться. Кипятиться, волноваться, возмущаться... Зачем? Тетя Дины Школьник всегда выигрывает пару десятков рублей, а то и сотен.
Как-то она поехала в Израиль к Дининому брату, еще одному своему племяннику. Дина, хорошо зная свои кадры, позвонила брату и, предупредив о пагубной тетиной страсти, посоветовала, чтоб ее, во-первых, не подпускали к антиквариату, а во-вторых, одну вообще никуда не отпускали. А главное, чтобы денег не давали.
Ага! Счас!
В первое же утро, пока все спали, Мириам Моисеевна вышмыгнула из дому и почесала на рынок за углом. Походила, посмотрела, потрогала – разминалась. Выбрала жертву. А потом вступила в схватку. Вернулась, когда дома, не обнаружив тети, забили тревогу. Вернулась взмыленная, счастливая, торжествующая, с большим пакетом давленых потекших персиков.
– Где ты их взяла? У тебя же денег не было… – озадаченно почесал голову Миша.
– Трофэйные! – удовлетворенно бросила уставшая тетя, с удовольствием закуривая сигаретку.
И тут все увидели, что вернулась она домой не одна, а в сопровождении араба, который помог ей найти дорогу назад и донести фрукты. Именно его, страшноватого и долговязого, она подкупила своим удивительным талантом торговаться и в нем наконец нашла достойного соперника. Они быстренько вошли в раж, не имея общего языка, выбрасывали друг другу пальцы, орали, мотали головами, раскраснелись, вспотели оба. Пожимали плечами, хохотали возмущенно, призывая в свидетели каждый своего небесного покровителя и окружающих торговцев и покупателей. Полетели искры. Тетя Дины Школьник Мириам Моисеевна иногда, уставая стоять на цыпочках, исчезала из виду за прилавком, и кто-то из болельщиков подсунул ей под ноги фанерный ящик. Блестя гневно глазами, эти двое хватали персики, мотали ими перед носом оппонента, потрясали ими, швыряли друг в друга. Мириам Моисеевна делала вид, что уходит, и слезала с ящика. Араб хватал ее за шкирку и ставил обратно, в свою очередь выбрасывая меньше пальцев, чем выбрасывал раньше, но больше, чем показывала тетя Дины Школьник. Смотреть на дебаты сбежался весь рынок. Кто-то болел за старенькую крошку, кто-то криками подбадривал торговца. Словом, в результате тетя Дины Школьник получила персики даром, одобрительные аплодисменты зрителей и цветистое многословное благословение продавца фруктов и его товарищей по бизнесу. Араб привел Мириам Моисеевну прямо к двери и, сдавая ее с рук на руки, сказал Мише, что вот это торговля сегодня! вот это жизнь! И что такого удовлетворения от своей работы, такой радости… от женщины… он еще никогда не испытывал. Он еще, счастливый, с сияющим лицом, долго откланивался, жалея расставаться с таким достойным противником.
*
Недавно тетя Дины Школьник пожаловалась по телефону своей обожаемой племяннице: «Знаешь, Диночка, с этой чокнутой политикой… Мы, Школьники, все теперь оказались детями разных народов, слушай. Ты – в Украине, Мишка – в Израиле. Я – в России. И мы все как эти… Отрезанные ломоти! Меня как будто опять выбросили из самолета. И уносит, уносит ветром далеко от своих… И опять не знаю, куда приземлюсь и что буду делать…»
Я – японка, или японка ли я
Считается, что японская женщина – это и есть настоящая леди, а никакая не англичанка. И вот правила. Оказывается, я абсолютно не соответствую. Или соответствую?
Итак, правила японской женщины:
Быть здоровой.
Какое там, если не колет, то давит или щемит… Вот в данный момент болит голова… Не японка.
Держать спину прямо.
Вечно сутулюсь. Это из-за музыки. Почему-то считалось, что стульчик возле пианино надо выкручивать как можно выше. А я близорука была, вот и приходилось сутулиться, чтобы рассмотреть ноты и быть поближе к клавиатуре. Кстати, так играет Мисин – носом в клавиатуру. Ну это единственное сходство с Мисиным. Он, хоть и играет носом, молод красив кудряв и гениален. И мальчик. Я же только играю носом. Остальное – не обо мне. Не японка.
Говорить на хорошем японском языке.
Могу! «Сенсей», «Харакири», «Камикадзе», «Якудза», «Гейша», «Васаби», «Суши», «Мицубиси», Хокусай, Мураками, Йокогама, еще Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо… Ки-мо-но! Кто посмеет сказать, что приведенные японские слова – плохие? Я говорю на ХОРОШЕМ японском языке. Японка.
Всегда с улыбкой говорить "Доброе утро".
Ага… По улыбке и получить можешь, что часто бывает. Мои домашние плохо переносят мое хорошее настроение утром. Нет. Не японка.
Соблюдать правила этикета со всеми.
Тут надо за собой понаблюдать. По крайней мере, даже к незнакомым собакам и котам я обращаюсь на вы. Ну и, как говорится, первая не нападаю. Японка.
Иметь ухоженные руки и здоровые ногти.
Этого у меня не отнимешь. Это от природы. Типичная японка!
Быть той, о ком говорят, что она всегда опрятна.
Эм-м-м… Надо поспрашивать. А то обо мне на эту тему никто пока не высказывался. Так, японка под вопросом.
Почти никогда не испытывать скуки.
Вот тут я точно японка. Фух. Наконец-то, хоть что-то определенное!.
Посвящать себя чему-то.
Я посвящаю себя вам, мой читатель. И не только потому, что хочу быть японкой.
Аккуратно возвращать одолженные вещи.
Я беру только книги. Больше ничего. Возвращаю. Думаю, что даже аккуратней, чем японка.
Говорить приятным голосом.
Вот!!! Нет, я не безнадежна!!! Многие говорят, что у меня приятный голос. Правда, мне самой он не очень нравится. Считайте, что я этого не говорила. Японка!
Отвечать на письма и послания.
Это обязательно! Я – японка! Японка!!!
Не говорить о том, чего не знаешь.
А я и не говорю! Правильно… потому что японка!
Уметь носить джинсы.
Хм… Я думала, уметь носить джинсы – это достоинство американцев… Странные требования к чистоте японской нации. Да, я умею носить джинсы. Значит, натягиваешь одну штанину, вторую, потом ложишься, выдыхаешь, застегиваешь молнию, потом пытаешься встать. Если встала, пытаешься сделать шаг. Если сделала шаг, значит все – пошла, пошла. Идешь. И носишь американские джинсы. Как истинная японка.
365 дней в году быть в хорошем самочувствии.
Если меня любят, могу и чаще. Японки отдыхают.
Тратить деньги как полагается, и на нижнее белье тоже.
Японка. Я – японка. Могу!
Вкусно готовить. Иметь ловкие руки.
Так, где дают японское гражданство?
Выбрасывать ненужное.
Я бы с радостью, но оно само назад домой приходит. Вот копилку в виде собаки– перед Новым годом выбросила опять. Глядь – а она на подоконнике стоит. И ухмыляется. Видно, не хочет, чтобы я японкой была.
Рано вставать.
Который там час? Ага, полшестого. М-да… Разрешите представиться – Маруся-сан…
Каждый день просматривать газеты.
Я просматриваю интернет. Считаю, можно поставить плюсик.
Каждый вечер хорошо засыпать.
Нет, не совсем японка…
Часто говорить "спасибо".
О! Спасибо! Вот, спасибо!!! Японка-японка! Трижды японка.
Не скупиться на обувь.
Ну, почти японка. Пойду на днях, не поскуплюсь. Если дочь не раскрутит не поскупиться на ее обувь.
Поддерживать чистоту в уголках дома.
У меня так много уголков – пойду сейчас загляну во все. Правда, в одном из уголков стоит клетка в полкомнаты кролика Арсения, а в другом – Иннокентий-попугай живет. Там сложно поддерживать идеальную чистоту. Так, японка минус два угла.
Хорошо договариваться с людьми.
Легко! Могу. Все! Нужно выбирать для жизни один из японских островов. Вот, скажем, Кюсю. Там красиво.
Самостоятельно преодолевать страдания.
Нет, не японка. У меня есть кому уткнуться в живот и поплакать.
Не переносить в завтрашний день неприятности, которые случились сегодня.
А если они у меня наоборот – перебираются со вчера в сегодня?
Интересно, как с этим в Японии?
Почти не простужаться.
Я стараюсь… О, возьми меня, Япония!
Иметь сияющие блестящие волосы.
Вот японцы дают!.. Нет, ну как вам нравится? Не только блестящие, но и сияющие! Это же одно и то же!.. Японка!
Уметь самой укладывать волосы.
Не думала, что укладывать самой волосы – по-японски, думала, это от отсутствия времени, денег или хорошего мастера. Вполне…
В коллективе вести себя сдержанно.
Ну это прямо про меня. Странно, почему до сих пор никто не понял, что я – японка?
При необходимости стать лидером.
А если эта необходимость всю жизнь?.. Опять неясность…
Иметь много приятелей для встреч.
Нету… ну все, прощай, Кюсю, Хонсю, Сикоку и Хоккайдо.
Правильно выговаривать окончания слов.
Я – япон-КА.
Красиво писать иероглифы.
Щас попробую. Думаю, смогу. Я же японка…
Иметь любимое изречение.
Их есть. И не одно. Так что я не японка, я – круче!
Не бояться стареть.
Не буду!.. Только бы стать японкой!
Иметь множество планов на будущее.
Японка в пятом поколении!
Больше плакать о других, чем о себе.
…Японка.
Смотреть в зеркало хотя бы раз в 2 часа.
Какой хороший совет. И где они только время берут эти японки?
Быть счастливой, выглядеть счастливой.
Я счастливая. Я выгляжу счастливой. А иначе, почему я так раздражаю женщин.
Так что добро пожаловать ко мне! В Японию…
Петя Довжик и крылатая девочка
Так. Ну и газета у нас есть одна! Называется «Будильник». Ну пишут! Ну редактор, Петя Довжик, – голова! Ну вообще! Вот, например, раскопал Петька такой факт, будто в Черновицкой области обнаружили девочку, которую якобы когда-то подобрали и воспитали гуси. Люди чуть с ума от любопытства не сошли, тираж увеличился, газеты во всех киосках раскупили, очевидцы откуда-то взялись. Пишут письма Петьке: да-да, я сам видел: давно это было, гуси гоготали. Думал, чего это они? А это они, оказывается, нашли девочку и воспитывают ее, вот оно что. На местном телевидении тоже какие-то странные люди стали выступать, давать интервью, рассуждать, возможно такое или невозможно, чтобы гуси воспитали девочку. Петя Довжик новый галстук купил. И джип.
Пошумели месяца три. И как-то само собой затихло.
А потом вдруг Довжик раз – и опровержение шлеп! В газету свою. Мол, нет, дорогие наши подписчики и читатели, не так это было. У одной женщины (вроде где-то у нас она в городе живет, но у кого ни спросишь, никто ее не знает, ну никто, – где она живет, кто ее видел, кроме Довжика...), так вот, пишет Довжик изобретательный, оказывается, у этой женщины родился удивительный ребенок. Девочка родилась. Удивительная. Экология, то да се... Короче, только не ахайте, – с крыльями она у нее родилась. Где она родилась, в каком роддоме – никто не знает. Один Довжик. А больше никто не видел, но где-то вот тут, близко, рядом. Так в «Будильнике» написано, так люди пересказывают. Да. Ну вот. Ее сразу – в лабораторию. Такая, оказывается, есть у нас секретная лаборатория – никто про нее не знает, никто не видел, нигде ее на карте города нету – но она есть, Довжик видел, знает, и так его газета и написала: есть такая секретная лаборатория. Кто там работает, какие ученые – никто их не знает, где они у нас в нашем маленьком городе проживают, где они учились, где защищались, как зовут, но есть такие у нас в городе ученые и секретная подземная лаборатория, да, есть. И, как выяснилось, знаний, или оборудования, или еще чего-то там у этих наших ученых не хватило, и они решили эту девочку крылатую перевезти в город побольше – например, Львов. Автобусом. Нет, не рейсовым. Специальным секретным автобусом специальной закрытой секретной лаборатории. Никто ни разу не видел этот автобус, но есть такой – так Довжик пишет. Есть такой специальный, бронированный. Наверное. А какой же еще... Повезли в город Львов. Там тоже есть такая секретная лаборатория со всеми их секретными делами, учеными секретными. Те уже губу раскатали – загадка нового века, крылатый человек. А девочка эта, не будь дурой, сбежала по дороге. Вот молодец! А что ж, ей уже больше двадцати лет, этой девочке. Кто ее летать научил – неизвестно. Не мама же. У нее же мама обыкновенная, не летающая. Как, скажем, курица. Курица ведь тоже не летает. Ну или там страус... Кто научил летать – не знаю. А может, как раз и гуси. У нас же в области самая модная теперь птица – гусь. И, главное, такие подробности: размах крыльев у этой девочки – два с половиной метра. Во, девочка еще та!
Так вот – она смылась. Не знаю... Может, надоело ей по лабораториям шастать, может, просто весна, брачный период, она ведь все-таки молодая. А что?! Ей сбежать – раз плюнуть, крыльями взмахнула – и фьють, поминай как звали, дернула из автобуса, обгоняя вертолеты. А как звали-то ее все эти двадцать лет? Что-то никто и не говорил, как звали. И в газете вроде имя не называли. Довжик в секрете держит. Наверное, это чтоб не звали, если ее где-нибудь на крыше или на дереве увидят. Вот зовут ее, к примеру, Галя. Кто-то ласково ее: «Га-а-аля! А, Галя?» Она, может, доверчивая, а ее – хвать! Американцы. И к себе в НАСА. О! Знаем мы этих американцев. Они все готовы утащить, что у нас с крыльями, особенно гусей. Вон понаехали из штата Юта мормоны – фермы гусиные у нас пооткрывали. На пустырях и на стихийных мусорных свалках наших украинских. Ой, эти американцы! Даже рапс наш стали вывозить – это такое растение. Выращивают, собирают тщательно и увозят. Наш рапс! С нашей украинской земли рапс! А из него такое делают – жуть. Топливо специальное биологическое. Ох, непростые! Короче, чтоб американцы нашу летающую девочку не стырили, нам ее имя в газете и не назвали. Просто девочка – и все. С крыльями.
Короче, смоталась она.
И все, с тех пор начались страсти. Слухи пошли, письма в газету.
Например, вдруг (пишет Довжик в «Будильнике») нашли где-то какого-то запойного мужичка в парке на лавочке. Как будто бы эта самая девица на него ночью напала, кошелек вытащила, отлупила и покусала. Опять же – кто его видел, этого пьяницу? А никто не видел, но говорят. И почему эта девица на алкоголика спикировала, а не на работника кондитерского цеха, какую-нибудь пышную, румяную, ванильную тетю Зину? Или молодежи вон полно болтается по вечерам на дискотеках, бей – не хочу. Или коза пасется такая беленькая в саду у соседа нашего, отставника Косульского. Почему именно на алкоголика, а? Она что, эта девочка, пьющая? Что, ничего больше подходящего не нашлось? И стали звонить в газету, спрашивать: а где, где же он, этот алкоголик? Охота же подробности людям знать, правильно?!
А Довжик соловьем – собирает факты, письма всех сумасшедших и чокнутых, на которых эта девица крылатая якобы пыталась напасть.
И знаете, так рейтинг газеты вырос, так она стала раскупаться, просто у типографии рано утром народ ждал, никакой вам рекламы не надо.
Довжик уже и квартиру купил новую, и на островах дважды отдохнул. От творческих потуг.
Ну а осенью произошло событие, которое потрясло всех жителей области нашей просто до глубины души. Как-то неожиданно все случилось. Вдруг во всех наших газетах и по телевидению объявили горестное известие. Что Довжик, редактор газеты «Будильник», в тяжелом, практически шоковом состоянии попал в больницу. Сначала молчал, лежал тихий, как украинская ночь. Потом признался. Рыдал, каялся... Ужас какой! Оказывается, поздно вечером, когда он возвращался с фуршета в честь награждения своей газеты чем-то за высокий рейтинг, сверху с городской ратуши на него напрыгнуло что-то большое и крылатое. Яростно шипя, оно пощипало и покусало Довжика всего, а потом призывно гагакнуло, клюнуло напоследок редактора в самое темечко и присоединилось к гусиной стае, кружащей вокруг ратуши.
И только перепуганный до полусмерти сторож видел, как, прощально, но торжествующе гогоча, большая стая гусей потянулась на юг.
Кошка Скрябин
А еще Марианна Гончарова замечательно писала о животных. В «Фонтане» у нее даже была специальная рубрика – «Фауна в лицах». На этих фото – главный герой (она же героиня) многих рассказов Марианны – Кошка Скрябин.


Сегодня мы с мамой покупали в ветеринарной аптеке капли для маминого и кота и для моей кошки. Для кота и кошки в одном лице – довольно бесстыжем, усатом, наглом и очень привлекательном лице в полоску. То есть морде. В полоску…
Девять месяцев назад я подарила родителям котенка лесной дикой кошки. Продавец, принимая круглую сумму, перевернул котяшку пузиком вверх и, одобрительно кивая головой, с уважением сказал:
– Ко-о-от! Коти-ище! Ого! Будете еще гордиться! Кошки в очереди друг друга затопчут.
Котенок-красавец, в леопардовых пятнах, с тигриными полосками на морде, голове и хвосте, с намечающимися кисточками на ушках, с пушистым мягким пузом и корявыми тонкими лапами был беспомощный, нежный и застенчивый. Но моя мама свое дело знала четко: в считанные дни она своей добротой, лаской и любовью его полностью растлила. Кот быстро осознал, как ему круто повезло, какое привалило ему счастье в виде этой приятной интеллигентной дамы, его хозяйки, и доброго седого дедушки, его хозяина, и стал лазить на стол, воровать все, что плохо лежит, освоил все плоскости от пола до потолка (за что тут же получил прозвище Кот вертикального взлета), научился открывать холодильник, прятаться в шкафах и верещать оттуда, забираться в немыслимые углы под ванной, под мойкой в кухне, ночью играть и не давал спать хозяевам и лакать оливковое масло прямо со сковороды. Потом совершенно разошелся и раскомандовался: орал, требовал, бушевал, кусался исподтишка и очень больно. Правда, был аккуратен, что касается гигиены, терпеливо сносил мытье под душем и умилительно и бесконтрольно сладко спал на спине морской звездой.
Неделю назад я пришла к ним в гости, и мама поставила вопрос, загнавший меня в тупик:
– А слушай, где у Скрябочки это… ну эти… ну такое, ну круглое, две… два…?
– Чего две у Скрябина, мама? Два?!
– Ну то, чем гордиться. Ну Фаберже! – выдохнула мама и смутилась.
– А-а-а... – догадалась я, – ну там… где-то… Ну так продавец же сказал – ого!
– Ну что ты! Какое «ого»? У других котов – я видела, тако-о-ое, таки-и-ие… эти… две... два…(Надо знать мою интеллигентную маму, этот разговор ей очень трудно дался). А у нашего Скрябина как-то… ну… как-то… Ну нету никакого «ого»! Какая там гордость? Стыд один…
Я поймала кота и заглянула. С тех пор как мы заглядывали туда с продавцом этого кота, который уверял, что эти… ну… два… две... они – налицо, верней, под хвостом, и – ого! С тех пор эти... ну… две… два… Они… растворились. Кот Скрябин, Скрябчук, Скряба, а по паспорту Скрябин Тигрисс Второй оказался кошкой.
– Мама, Скрябин – кошка.
– Не-ет!..
– Да.
– Кошка?! – побледнела мама. – Мой Скрябин – кошка? Он – она?!
Я помню, мама предупреждала, мама просила, что только не кошку, нет, кошку – нет и нет! Ни за что. Все что угодно, но не кошку. Только не кошку! Только чтоб был кот. Кот! Ка О Тэ!
– У-у-у-ужас… – прошептала мама, – я этого не выдержу… Я же любила в нем кота…
Раз… Два… Пятнадцать… Тридцать… Я капала маме корвалол.
Так по моей милости в маленькой уютной квартире вместо любимого, единственного в мире кота вдруг появилась ненавистная кошка. Подлая коварная кошка, кусачая, вороватая. Кошка, которая игнорировала дорогущие когтеточки, испортила обои и погрызла подлокотники кресел. Кошка, которая в перспективе должна была принести гроздь котят, за которыми надо будет ухаживать и пристраивать их в хорошие руки.
– Н-не-е-ет! – мама заломила руки и разрыдалась: – Я любила в Скрябине котика, я прощала Скрябину все. Все то, что можно простить только котику, а кошке – никогда. Я не хочу кошку, верните мне моего котика… Верните мне Скрябина! Я не буду любить эту незнакомую кошку, я не могу ее любить, хоть она и композитор!!!
А несчастный композитор, кстати, еще за два дня до выяснения, видимо, что-то почувствовал и, предвидя развязку, понуро возлег кучкой у входной двери словно чего-то ждал. От этого мама плакала еще горше:
– Он знает! Он знает, что я его не хочу… Ее… Ее-о-о-о-о-о!!! О-о-о-о!!! Ы-ы-ы-ы-ы-ы!!!
Я чувствовала себя виноватой. И решила забрать Скрябина к нам – у нас большой дом, у нас полно животных, еще один – будет незаметно.
Словом, я забрала все котовье приданое, его вещички, любимую игрушку – удочку с крабом, с которой Скряба не расставался (лась). Его (ее) горшок, его (ее) кормушечку и поилочку, его (ее) щетки и шампунь и перевезла его (ее) к нам.
В первый день он(а) сидел(а) под кроватью в спальне, страдал(а), не ел(а), не играл(а), не ходил(а), не вынюхивал(а). Мама в свою очередь ужасно страдала у себя дома. Вечером Скрябин вылезла из-под кровати, поела, умылась, повозилась с горшком, спустилась вниз, нашла в куче своего приданого в прихожей любимого краба и поволокла наверх вместе с удочкой. Потом улеглась в кресле на предусмотрительно расстеленной для нее белой подстилке и замурлыкала. Смирилась.
На следующий день мама позвонила и робко стала умолять о свидании. Она пришла к нам, груженная сумками, как будто приехала к изголодавшемуся внуку в пионерский лагерь. В обеих сумках были гостинцы: куриная печенка, одноразовые пакетики с разными консервированными кошачьими обедами, коробка с сухим кормом «Нутра», красная бархатная мышка, серая вельветовая мышка, фетровая птичка с розовыми перышками, шелковая птичка с голубыми перышками, мышка в шарике, мячик с колокольцами внутри и три баночки натуральных сливок.
Скрябин возлежали рядом с компьютером и изволили дремать после ужина.
– Скрябин!!! Маленький мой! Котеночек мой! – вскричала мама, прижимая руки к груди. – Как же ты исхудал, мой Скрябочка, мой Тигреночек!!!
Скрябин приоткрыла глаза, вопросительно посмотрела на маму, презрительно фыркнула и спряталась за компьютерный стол.
– Миленький мой, единственный, что же ты меня так плохо встречаешь? Ты на меня обиделся?! Ну иди же ко мне, мой мальчик, мой котик… – молила мама, и строго мне: – Какую воду ты ему даешь? Свежую? С серебром?! Как часто ты его кормишь? Дробно? Четыре-пять раз?
– Мама, – сказала я ей осторожно, – раз ты так тоскуешь, может, ты заберешь Скрябу назад?
– Кота – да.
– ???
– А кошку – нет…
Скрябин опять презрительно фыркнула из-под стола.
Мама, всхлипывая, ушла домой.
А сегодня мы покупали витамины в капельках. Для здоровой блестящей мерцающей шерстки. Я – своей кошке, мама – своему коту. И коту и кошке в одном лице. То есть морде…
Баклуши по-английски
Глава из книги «Моя веселая Англия»
Когда мои дети спросили, что же мне запомнилось больше всего, что понравилось больше всего в Великобритании, я ответила сразу, не задумываясь и однозначно: это был день, когда я никуда не пошла, никуда не поехала, ничего не переводила, а осталась в имении Максвеллов и била баклуши.
Бить баклуши по-английски это значит помогать хозяйке дома Джейн приготовить еду на пятерых наемных рабочих, одну довольно прожорливую гостью и пятерых членов семьи – сыновья хоть и жили в отдельных коттеджах, но исправно приходили в центральную усадьбу на завтрак, ланч, файв-о-клок и обед. Кстати, у них в холле между входом в столовую и кухню (одну из самых симпатичных кухонь, какие я в своей жизни видела) на невысоком столике с гнутыми ножками стоял старинный гонг. И когда дом был полон людей, в него лупили что есть силы за пару минут до начала трапезы. А к вечеру дня, когда я била баклуши, в дом были приглашены гости посмотреть на живую русскую.
Эти соседи-англичане напросились сами. Мы встретили Мэри по дороге домой, и нас друг другу представили. Она была так ошеломлена – и не скрывая изумления, рассматривала меня, как говорящую обезьяну. А сама, к слову, ходила по своему садику в халате, в теплом платке на пояснице и в косынке, кое-как завязанной под подбородком, – ну чисто обычная бабушка из молдавского села. Она трогала мое пальто, рассматривала сапоги, перчатки, сумку и не верила, и спрашивала: нет, ну правда, ты из России?
– Неправда, – отвечала я. – Я из Украины.
Ну и, как многие, тут же спрашивала, а где это и далеко ли находится Сибирь от моего дома.
И вот тогда галантный Роберт предложил:
– А почему бы вам не зайти к нам?
Мэри склонила голову и ответила, как Винни-Пух, что до вторника она абсолютно свободна и они с мужем будут рады.
И Роберт вежливо поклонился и ответил, что его родители, а также их гостья тоже будут счастливы…
А Мэри приветливо сказала…
А Роберт галантно ответил…
Я вертела головой то на одного, то на другого, как будто они играли в теннис. А они совершали ритуальные поклоны: Мэри – Роберт, Роберт – Мэри. Пинг-понг. Понг-пинг!
Я так радовалась выходному дню – словами не передать. Потому что люди, которых я тогда сопровождала, вели себя так, как будто их насильно в Британию привезли. Причем британская сторона приглашала молодых фермеров, а поехали, как всегда, чиновники. В делегацию молодых фермеров в тот раз входил не только весь руководящий состав областного сельхозуправления, но и приближенные к ним люди: главврач, секретарь одного из райкомов партии, начальник станции техобслуживания автомобилей, дочь какого-то Большого Человека и жена брата Большого Человека. Палитра выражения лиц этих «молодых фермеров» была от сурового до кислого, от подозрительного до высокомерного. Меня даже репортер телевидения в Вуллере спросил: а почему ваши молодые фермеры такие немолодые? И мне пришлось выкручиваться, краснея от неловкости. А они стояли, надутые и величественные, с портфелями. «Вот пусть теперь сами», – подумала мстительно я, и как только случилась возможность, осталась.
С самого утра три черно-белых собаки и я пошли относить ланч Джону и его мальчикам в павильоны, где доят коров. Сначала собаки предложили поехать на машине – у них есть своя машина, у собак. Ну то есть собаки дисциплинированно запрыгнули в кузов пикапа, сели на хвосты и ждали, вывалив яркие свои языки, предполагая, что кто-то из нас четверых должен сесть за руль. «А почему я?» – пожала плечами я. «Ну не я же», – обиделась старшая собака. Тогда я предложила пойти пешком, причем словами предложила, помахивая рукой для убедительности и, кстати, по-русски предложила, но собаки поняли, и мы с ними построились в колонну по двое и побрели по дороге, наслаждаясь прозрачным солнечным утром и восхитительными видами.
Никогда, никогда в жизни у меня не было такой прекрасной компании для прогулки. Мы шествовали чинно, не перегавкиваясь, не переругиваясь и не отвлекаясь на запахи и проезжающие мимо машины. Причем собаки, приветливо заглядывая мне в лицо, вели себя как гостеприимные хозяева, и я полностью положилась на их знание маршрута, и рядом с ними была уверена в своей безопасности. По дороге мы встретили семью: родители ехали верхом на лошадях, а девочка – на пони.
– Morning, – приветливо поздоровались всадники.
– Morning, – ответили мы.
– Хорошая погода для пешей прогулки, – по-свойски заметил отец семейства.
– Прекрасная погода для прогулки верхом, – ответили мы.
– Еще бы, – хвастливо отозвалась леди, – два часа верхом – и вы другой человек. Разве вы не ездите верхом? Попробуйте.
А девочка ничего не сказала, она только улыбалась, и ее шоколадный пони тоже очень смешно выворачивал верхнюю губу и скалил зубы.
Мы, продолжив свой путь, весело помахивая хвостами, прошли мимо дома Мэри, по тропинке пересекли поле и вышли к павильону.
Ух!.. Как павильон на какой-нибудь Всемирной выставке! Блестящая поскрипывающая чистота. Металл везде. Простор и загадочные аппараты.
Коровы – чистые, нарядные, спокойные, как выпускницы частной школы для девушек, приседали в реверансах на соседнем пастбище, молоко по трубам уже ушло куда-то, и его уже увез кто-то на каком-то большом молоковозе. Дальнейшая судьба молока известна только старшему семьи -– Джону, поскольку именно он ведет бухгалтерию.
Спустя много лет, после того как ферма Максвеллов пережила эпидемию коровьего бешенства и они начали все с самого начала, младший сын Джон, окончивший к тому времени колледж, построил небольшой завод по переработке молока. Теперь у Максвеллов есть свой личный бренд – фирменное масло и йогурт, а также фирменное мороженое со вкусом пива – дань кулинарным пристрастиям истинных шотландцев.
Кстати, как-то я сопровождала одного председателя фермерского хозяйства, Гришу Туруна. Ох, что с ним творилось – у него была настоящая истерика, когда он вошел вот в такой павильон: каждая корова подходила на вечернюю дойку к своему месту, где на маленьком дисплее светился номер, в свою очередь выбитый на специальной клипсе на ухе коровы. И Гриша бегал на улицу курить, руки у него дрожали, в глазах блестели слезы, и он, нервно хлопая себя по карманам в поисках зажигалки, заикаясь, с надрывом шептал: «Г-г-где мухи, где з-з-з-з-запах, м-м-м-мухи! М-м-м-м-мухи где?!»
И много чего еще он шептал, в основном, конечно, слова, которые в таких случаях лежат на поверхности, но их я тут цитировать не буду.
А через несколько лет у Гриши уже было шесть таких павильонов. Вот так вот!
А в тот день, когда собаки привели меня домой, мы с Джейн стали возиться на кухне – Джейн варила в кастрюле брюссельскую капусту и еще какие-то овощи, варила долго, как ее учила мама. Писал же американский писатель Кельвин Триллин, что даже сейчас английскую девушку учат варить овощи долго, как минимум полтора месяца, на тот случай, если один из гостей забудет захватить с собой зубы. Потом Джейн это все зеленое мяла в ступке – мяла, мяла, потом кастрюлю с зеленым закрыла пищевой пленкой и удовлетворенно вздохнула: все, обед готов.
Нет-нет, на обед Джейн еще приготовила тушеную говядину и йоркширский пудинг. Это такое эм-м… такое… ну назовем это пирогом. Это, значит, пирог из заварного теста – как основа, которую мы дома печем для эклеров, так? Да, значит, пирог. Из заварного теста, такая лепешка внутри полая… Ну и все. Это и есть легендарный йоркширский пудинг. («Алиса, это пудинг…» – «Ах вот вы какой, пу-у-удинг…») Его поливают мясной подливой, этот пудинг.
Короче, с сомнением покосившись на кастрюльку с зеленым, я энергично взялась за дело и напекла гору блинов, а икру – и черную, и красную – я предусмотрительно привезла с собой. Причем когда я пекла, Максвеллы – солидный отец семейства, трое парней от 25 до 35 лет, которые к обеду вернулись домой, и девочка двадцатилетняя, племянница Джейн, сирота, студентка с фарфоровым личиком, прелестная и тоненькая Кейси, вели себя точно так же, как все мы – моя сестра, мой муж, мой сын, племянница, мой папа – у нас дома, когда мама пекла блины, – то есть забегали в кухню на манящий аппетитный запах и потихоньку таскали с блюда, обжигаясь и хихикая.
Стол в столовой накрыли скатертью такой площади, что ею можно было покрыть футбольное поле. И хотя гостей пришло достаточно много – за столом все поместились и сидели просторно. Атмосфера была непринужденной, манеры – должными, еда – вкусной. С явным превосходством выигрывали мои блины, которые почему-то были объявлены перед подачей моим семейным традиционным национальным блюдом. Хотя это не совсем так. Но я не возражала. Просто фаршированную рыбу, или красный борщ, или плов, или пельмени, или вареники готовить гораздо дольше.
После обеда, как и полагается, все уселись в каминной, камин, естественно, был зажжен, подали чай, кофе, пирог с малиной, мужчинам предложили сигары – ф-фу! – и пошел разговор.
Говорят, что основная тема американцев – geographical links – спрашивают, откуда вы. Потом они интересуются, далеко ли это от Москвы, и вне зависимости от твоего ответа, что да, очень далеко, с радостью делятся:
– О-о-о-о, брат дяди моей жены когда-то ухаживал за девушкой, которая тоже жила в Москве. Но они расстались, потому что в Москве очень холодно, а брат дяди моей жены – теплолюбивый. Теперь он живет в Австралии.
Насчет американцев в это можно поверить. Не раз в этом убеждалась. А вот в то, что основная тема разговора англичан – погода, не верьте.
– Мэриэнн, а вы агент Кей Джи Би? – спросила Противная Мэри.
– Нет, – ответила я и обиделась. – Я даже не знаю, где находится офис.
– Ну так ведь не обязательно знать, где находится офис, у вас же агенты надевают резиновые длинные плащи, берут в руки корзинки с яблоками и встречаются на мостах, в метро, на явочных квартирах…
– А хотите, мы покажем вам, где находятся наши ракетные инстолейшнз? – подмигнул мне муж Противной Мэри, Противный Джордж, – для вашей работы… Вас повысят в звании…
– Все вы там коммунисты, – безапелляционно отмахнулась лапкой Противная Мэри, – у вас ядерное оружие.
Я так расстроилась, как будто меня обвинили в том, что ядерные боеголовки ждут своего часа прямо у меня дома на балконе.
Я ужасно обиделась, и мне захотелось домой к маме.
Между прочим, когда мне плохо, или мне не по себе, или я болею, я всегда хочу к маме, и сейчас тоже, хотя сама уже мама и уже – ой! – даже бабушка.
– Не обижайся, Мэриэнн, – успокаивала меня шотландка Джейн после ухода Противных Мэри и Джорджа, – что с них взять, они ведь англичане.
– Да ладно, не волнуйся, они хорошие ребята и никому не скажут, что ты работаешь на Кей Джи Би, – пошутил кто-то из Максвеллов.
На следующий вечер, когда я приехала с работы домой, я обнаружила в просторной кухне корзину.
– Вот, – хитро улыбаясь, Джейн протянула мне открытку с алым толстым смеющимся сердцем: «Простите нас! Виной всему ваша пеппер-водка». (Пеппер-водкой они назвали нашу перцовку, привезенную мной в подарок, с перчиком внутри, которой они угощались до и после обеда. Во время трапезы пить крепкий алкоголь у Максвеллов не принято.)
А в корзине спал Чак. Потрясающей красоты и обаяния душистый теплый щенок бодер-колли, черный с белым подбородком, с толстыми многообещающими лапами. Малыш раскрыл сизые бессмысленные сонные глаза, и я влюбилась раз и навсегда. Я взяла его под пузо, придерживая второй рукой под попу, а он счастливо тявкнул, задрал морду и облизал мне нос.
Он, как и подобает порядочному собачьему ребенку, имел отменный аппетит, любил всех вокруг и от избытка радости повизгивал и писал везде, куда мог достать.
Тогда я не смогла его вывезти, потому что еще какое-то время мне пришлось работать и жить в других английских городах, и возить с собой малыша Чака не было возможности. И потом мне не хватило бы моего переводческого гонорара на специальную, обязательную тогда по правилам перевозки животных клетку, на обследование щенка у ветврача, обязательные прививки и двухнедельное его содержание в карантине в аэропорту.
Чак остался жить у Максвеллов, и в каждом письме Джейн, или Роберт, или Кейси обязательно присылали его фотографию и отпечаток лапки. Отпечаток становился от письма к письму все больше и солиднее. Чак вырос настоящим другом и помощником и даже стал чемпионом среди собак-пастухов на больших традиционных соревнованиях. Максвеллы писали, что он, сообразительный и чуткий, понимал команды, поданные не только голосом, свистом, жестом, но еще и взглядом, и даже мысленно.
На одной фотографии, которую мне прислали Максвеллы, полный достоинства, с медалями на ошейнике, гордый красавец Чак во время награждения улыбался. Причем улыбался по-настоящему. Как могут улыбаться только самые добрые, любящие, благородные существа – собаки, лошади, дельфины… И мои родители.
Едем в Одессу
1.
В часе езды от Черновцов есть маленький город на Днестре – Жванец Хмельницкой области. Едем рано утром. Прохладно. Осень. По дороге весело несется стайка мальчишек лет семи-восьми. Останавливаемся. Спрашиваю у самого маленького, вихрастого:
– Куда вы так рано?
Вихрастый:
– Ми? На річку. Рибалити.
Я:
– А чей же ты такой?
Вихрастый:
– Я? Жванецький.
Я:
– Ты смотри, такой маленький, а уже Жванецкий.
Вихрастый:
– А мы тут усі жванецькі.
Едем через Жванец и планируем приезд знаменитого землевладельца к себе в вотчину. Тут повесим лозунги «Истинному хозяину Жванца – достойную встречу!» Вдоль трассы поставим красивых девушек с цветами. Они будут визжать: «Ах! Барин Михал Михалыч сами пожаловали!»
Планировали мы вдохновенно. Дошли даже до права первой ночи. Но потом нас остановил гаишник. Я на всякий случай спросила:
– А вы – жванецкий?
Он сурово ответил:
– Нет. Я – хмельницкий. Ваше водительское удостоверение и техпаспорт, пожалуйста...
2.
Вдоль дороги люди торгуют самым невероятным товаром: фруктами, овощами, синькой, цементом, водкой, кирпичами, пирожками и смехом рябой кобылы в мешке. Нажимаешь на кнопку – из мешка что-то ржет.
Недалеко от заправочной станции стоит замерзший маленький человек в тюбетейке и кутает нос в воротник пальто. Стоит как большая замерзшая птица. Продает что-то загадочное. На самодельной картонке надпись: «Восточные сладости».
Пока муж заправляет бак машины, подхожу. Спрашиваю:
– А что это у вас?
– Восточные сладости, – отвечает человек-птица.
– А где их делают?
– На Востоке.
– А конкретнее?
– Слушай, женщина, ты читать умеешь? В школе училась? Читай? Ва-сточ-ны-и!!! На Востоке!
– А где? Где?
– Север-юг знаешь? Запад-восток тоже знаешь? Тэм-м!!! – Птица маханул рукой на запад.
– Вы меня не поняли. Я...
– Э-э!!! Ты кушать хочешь, а? Или поговорить, а? Если поговорить, летом приходи! Летом!!!
– Да я...
– На, женщина! Так даю! Не надо деньги! Только уйди!!! Уйди!!! – и ворчит мне в спину. – Лю-бо-пит-ная!..
3.
Подъезжаем к Одессе. Плутаем и никак не можем заехать так, чтобы не пересекать весь город, а сразу попасть куда надо. Останавливаемся у придорожного кафе, спрашиваем у старика с пронзительно-синими глазами, который сидит на террасе и нежится под солнышком, как заехать в Одессу. Синеглазый:
– Извините, я не могу с вами поздороваться. У меня жирные руки. Я кушал рыбу. У меня врачи нашли гастрит. Я – больной. Чуть-чуть. Теперь мне надо кушать часто, и это хорошо. Но понемногу, а это плохо. Ну ладно. Счастливого пути.
Синеглазый поворачивается и уходит. Я:
– Уважаемый! А как же нам заехать в Одессу?!
Синеглазый через плечо:
– А что вам? Садитесь в машину и едьте себе. Здесь все дороги ведут в Одессу.
И действительно, мы поехали по первой же дороге. И быстро попали куда надо. Может, это был Ангел? Такой одесский синеглазый Ангел... Чуть-чуть больной гастритом...
Янкель, инклоц ин барабан
А этот рассказ Марианны победил в первом сезоне Одесской международной литературной премии имени Исаака Бабеля. Первое место!

На фото: Марианна Гончарова – первый Лауреат Премии им. Исаака Бабеля со всеми наградами. Одесса. Литературный музей. Золотой зал. 13 июля 2017 г. День рождения И. Э. Бабеля.
В нашем приграничном городке издавна в мире и понимании живут румыны и евреи, поляки и украинцы, и русские, и армяне, и татары. Все, кто сюда приезжает, остаётся здесь навеки. Потому что здесь место такое райское. Не знаю, живут ли здесь ангелы, но то, что они здесь частенько прогуливаются, отдыхая от своих забот, – это точно! Люди же у нас – просто чудо! Работать – так работать. Отдыхать – так отдыхать. Свадьбы – всю осень. А то и зимой. И весной. Круглый год свадьбы. А детей! Садиков не хватает! В школах тесно! Крови так перемешались, что никто уже точно и сказать не может, кто какой национальности. А о политике как-то никто и не задумывается. Некогда.
Прошёл у нас тут как-то слух, что продают погранзаставу. У нас ведь всё продают: заводы, корабли, танки… Реверансы делают в сторону демократии, воздушные поцелуйчики посылают, а сами тихонько продают, продают, продают… Вот кто-то и сказал вечером в ресторанчике «Извораш» («Ручеёк» по-русски) за пивом: а слышали – заставу продают? Народ у нас хозяйственный, предприимчивый, денежный – побежал интересоваться, а за сколько? С пограничниками или без? И продают ли с заставой кусочек границы? Коридорчик. Маленький такой, сантиметров двадцать, чтоб хватило сгонять в Румынию и назад. На цыпочках – топ-топ-топ легонько, туда и назад. Кусочек в виде бонуса к заставе, нет?
Начальник заставы капитан Бережной как увидел толпу у ворот – заставу в ружьё, стал своему генералу звонить: мол, тут митинг какой-то, революция, непонятно чего хотят… Когда выяснили, разогнали всех по домам. Народ разочарованный ушёл, хотелось им не столько заставу, сколько тропиночку в Румынию прикупить. У многих это давняя была мечта – такую тропку иметь. А всё потому, что когда Молотов и Риббентроп земли как яблочный пирог делили, о людях совсем не думали, семьи разделили так запросто. В Румынии мать осталась, в Украине – дети, или с одной стороны Прута один брат, с другой второй… Как, например, Янкель Козовский и его брат Матвей. Оба прекрасные потомственные музыканты. И отец их был аккордеонист знатный, и дед играл и на трубе, и на сопилке, на свирели, на окарине. А най у него звучал!.. Так сейчас и не играют вовсе. Сам король Румынии Штефан и супруга его приезжали слушать его най… А брат отца Янкеля и Матвея как-то в Ленинграде по случаю играл на саксофоне знаменитому саксофонисту, – знаете, такому бородатому, эффектному, модному тогда. И что? Тот такую мелодию не то что на саксофоне своём золотом, не то что языком, губами и дыханием – он пальцами на фортепиано сыграть не смог! Потому что техника у Козовских была фантастическая, и четверть тона могли! Вот как! Такую вот семью, такой вот семейный оркестр разделили границей и не задумались…
Сейчас-то Янкель совсем старый уже. А бывало – лет двадцать, двадцать пять назад – подъедет на велосипеде к самой границе, выйдет на берег Прута в условленное время, а с другой стороны реки – Матвей. Покричат друг другу:
– Эй! Как дела, Янкель?!
– Дела – хорошо! Как мама?!
– Мама скучает, тебя хочет видеть, Янкель, может, приедешь?! Я оплачу. Поиграть бы нам ещё вместе, а?! Янкель?!
– Эх, поиграть бы! Хорошо! Присылай вызов!
– Что?
– Вызов, говорю! Приглашение, говорю, присылай, говорю!
Ну и потом волокита: пока вызов придёт, пока Янкель все документы соберёт, характеристики подпишет, с этими бумагами в Киев или в Москву едет, чтоб визу открыть, паспорт получить. Потом через месяц опять к Пруту выходит.
– Матве-ей! Матвей! Отказали мне!
– Что?!
– Говорю, от-ка-за-ли мне! Приведи маму к реке на следующей неделе. Маму видеть хочу!
– Что?!
– Маму! Маму приведи сюда!
И через неделю со всеми предосторожностями приводят под руки старенькую маму, Еву Наумовну, к Пруту. А мама плохо видит и плохо слышит уже. Ей одолжили у румынских пограничников бинокль. Она смотрит в бинокль, не понимает, как в него смотреть, видит на том берегу фигурку своего младшего сына, а ни лица рассмотреть не может, ни услышать, а уж обнять – и подавно!
– Янкель! Вот мама пришла! Вот мама!
– Мама! Как ты себя чувствуешь, мама?!
Матвей наклоняется к маме, кричит ей: вон Янкель, мама, спрашивает, как ты себя чувствуешь, мама! Мама что-то отвечает Матвею. Матвей кричит через реку:
– Ма-ма го-во-рит, что хо-ро-шо! Себя! Чувствует! Только по тебе скучает очень!!!
Янкель видит, что мама руками лицо закрыла.
– Матвей! Матвей! Что мама говорит?! Что она говорит?!
– Пла-ачет она! Мама пла-ачет! Тебя очень видеть хочет. А в бинокль не ви-и-идно! Не видит она в бино-о-окль! Говорит, хочет услышать, как мы с тобой играем! Напоследок услышать хочет!!!
Янкель огорчается, грустит и, конечно, выпивает. Не выпьешь тут… Первое лекарство от огорчения…
Да, наш небольшой многонациональный и вполне респектабельный городок издавна славился и своими пьяницами. Потому что, как вы уже видите, это не какие-нибудь обычные пропойцы, как в других городах. Ну что вы! Наши пьяницы – это очень талантливый народ: музыканты, художники, актёры, зодчие… Пьянство – как бы понятнее объяснить – это часть их одарённой мятущейся натуры. Бывало, выпьет один такой утром – бац! – и проснулся в нём гений! Эх, сейчас бы за работу! Но нет. Выпьет ещё разок – щёлк! – гений икнул и покинул мятущуюся душу. И художник тянет своё бесполезное, ни на что не годное тело в мастерскую при Калиновском рынке, где подвизается оформителем, пишет объявления типа «Карандаши от тараканов! Три на рубль!» Зодчий нанимается на плиточно-мозаичные работы по отделке декоративного фонтана в местном санатории, актёр вместе с такими же изображает толпу зевак на заднем плане, музыкант собирает в чемодан гнилую аппаратуру и едет на халтуру в село Жабье Ивано-Франковской области играть на свадьбе дочери местного участкового.
Не то наш Янкель. Он, как и все его предки, играет практически на всех инструментах, независимо от количества выпитого. Но так, как он играет на барабанах, не играет никто! Никто! Гарантирую вам.
И каждую субботу, когда инструменты расставлены и все они, музыканты, кое-как накормлены и – конечно! – напоены хозяевами, вот уж который год он слышит одну и ту же фразу от руководителя их группы, старого аккордеониста Миши Караниды (а говорят они, наши музыканты, на такой певучей смеси румынского, идиш и русского, что ни один лингвист не разберёт такой диалект):
– Янкель! Вставай из-за стола уже, Янкель! Пошли работать. Хай! Инклоц ин барабан ши оплякат! (Ударь в барабан и поехали!)
Янкель даёт мелкую рассыпчатую дробь на барабане, и оркестр начинает свой рабочий вечер, переходящий в ночь, а нередко – и в серое утро.
Как-то Янкель окончательно рассорился с женой, с мамой жены и с тётей жены тоже рассорился. Причину ссоры стороны рассматривали по-разному. Жена, мама жены и тётя жены ссорились с Янкелем из-за его пьянства и нежелания подсуетиться и ехать в Румынию к брату Матвею на постоянное жительство. Янкель же считал, что они, – все эти ведьмы, эти кобры, – что они попросту антисемитки. По линии тёти. Потому что по своей линии они всё же немножко Шустеры и немножко Цибермановские. А тётя у них – да! Онопенко Оксана! Хоть и по мужу Шустер.
– Антисемиты! Антисемиты вы! – кричал Янкель.
– Как ты такое можешь говорить?! Что ты за слова говоришь?! Мне! В моём возрасте! В моём доме! – возмущалась мама жены Янкеля. – Янкель, ты бессовестный, Янкель. Что это за такие слова?! Чтоб этого больше не было! Чтоб ноги этих слов в моём доме не было! И твоей ноги тоже! Чтоб!
– Очень надо мне. Очень надо мне мои ноги в вашу хату! Очень мне надо!!! – дразнился Янкель. – И вообще, ваша дочь Неля распущенная, как я не знаю! Она курит! Поняли вы, мама?
– Ну и что?! – парировала мама жены Янкеля. – Не знаю, не знаю! Курит… Я тебе отдавала приличную девочку. Двадцать лет. Шестьдесят килограмм. Высшее образование. Без вэ пэ. А что ты с ней сделал за эти годы? Её же не узнать! Вот – уже курит. Что ты сделал с моей девочкой, я тебя спрашиваю, что она уже курит?!
Тут вступала жена Янкеля Неля:
– Все нормальные люди давно куда-нибудь уехали. Я не прошу Америку, я не прошу Израиль, – я хочу к Матвею в Румынию. Что мы тут видим? Пустые прилавки? А в Румынии – кофточки. В Румынии – еда. В Румынии – обувь, в Румынии – всё! Ты столько зарабатываешь на своих халтурах, если бы ты всё не пропивал со своими подлыми друзьями, мы бы уже давно жили в Бухаресте!
Сколько Янкель ездил в Киев, покоряясь жене своей меркантильной, сколько собирал характеристики, справки, что он не иждивенец, что он работает учителем в музыкальной школе по классу духовых инструментов… Даже взял в колхозе справку, что работает руководителем хора-ланки. О! Хор-ланка. То есть хор-звено. Вот кошмар. Это такую моду придумали райкомы на местах, чтоб были хоры-ланки. Это вот как: есть, например, звено колхозниц, работает на огородной бригаде, работает очень тяжело, в любую погоду, пропалывает или собирает, например, свёклу или кукурузу. А надо ещё чтоб они в свободное время пели в вышитых сорочках и венках с лентами. В девичьих венках. В пятьдесят лет. С золотыми фиксами во рту. Наталки-полтавки… Но надо! Надо чтоб пели «Вербовую дощечку» или «Полем-полем край села…» Нет, ну кому охота петь после такого тяжкого дня, когда ещё дома полно забот: дети, корова, свиньи, куры, сад, огород… Ну и набирали в такие хоры, чтоб угодить райкому, кого придётся, бывало и старшеклассники покрупнее габаритами в таких хорах пели. Однажды мы чуть от смеха не лопнули, когда Виталий Уласюк в таком вот хоре по поручению комсомольской организации пел. Один мужчина на всю ланку. Наш Виталий Уласюк, – кстати, впоследствии, через десяток лет после участия в хоре-ланке, он стал лауреатом государственной премии в области прикладной математики, – пел под видом слесаря тракторной бригады. Недавно встреча его класса была, хотели ему хор-ланку напомнить, так он телеграмму прислал загадочную «Мысленно вами симпозиуме Японии».
Да. Так вот Янкель и взял такую вот справку, как бы доказывая свою благонадёжность и лояльность по отношению к существующему строю. А его опять не выпускают. Совсем он закручинился. Просто запил, проще говоря. И на команду Миши Караниды «Янкель, инклоц ин барабан!» без энтузиазма реагировал. И даже играть стал хуже. Хотя играть мог в любом состоянии. А всё почему? К маме хотел. Хотел к маме. Понимаете? Вот вы понимаете, а почему же тогдашние власти не понимали? Не понимали, как взрослый, небритый, толстый грустный дядька остро скучает по маме. А тут опять Матвей заорал на берегу Прута: мол, маме совсем худо! Худо! Хочет, чтоб мы сыграли напоследок!
– Что?! Что?!
– Я ей наигрываю на скрипке, но она говорит: не то, не то… Хочет, чтоб с тобой!
– Ладно! – решил Янкель. – Ладно. В следующее воскресенье вывози маму к Пруту, лишь бы ветра не было.
– Что ты задумал, Янкель?! Не вздумай переплывать, Янкель! Тебя погранцы захапают, и мы не сможем выходить к тебе сюда на берег Прута, нас же не пропустят больше!
– Та не-ет! – досадливо отмахнулся Янкель. – Та не буду я плыть! Я – другое!
– Что?!
– Ничего! Короче, вывози маму! Всё!
Хорошие люди музыканты, правильные люди. Вот где была настоящая дружба народов, вот где была солидарность. Вот где был мир, труд и май! Все и так знали положение Янкеля, и его жену – антисемитку по тёте, и его тёщу, и то, что не выпускают Янкеля к брату в Румынию, и то, что Еве Наумовне стало совсем худо. Уж кого они там, на погранзаставе, уговорили, кого подкупили – не знаю, но в следующее воскресенье на берегу Прута, прямо на границе, выстроился оркестр.
Там были чуть ли не все музыканты, зарегистрированные, чтоб их не считали тунеядцами, в ОМА (Объединении музыкальных ансамблей). Молдаване, евреи, цыгане, украинцы, русские, поляки, немцы… да кто там был ещё – всех не перечислишь. Многие из них, кстати, пожертвовали халтурами – воскресенье же – и потеряли при этом кучу денег. Но кто там считал! Главное, что Ева Наумовна хотела послушать музыку в исполнении своего сына Янкеля, а это важнее, чем какие-то там сто рублей. Выставили аппаратуру, дорогущую по тем временам, не дешевле автомобиля, не пожалели, лучшую привезли – и установили на берегу Прута. К какой-то машине подключили. Где достали? Ну, словом, все помогали. Даже пограничники с нашей стороны. И знаете – даже Бог постарался, вник: ветер дул
как раз с нашей стороны Прута на румынскую.
Ждать пришлось недолго. Вот и машина к Пруту подъехала, аккуратно высадили Еву Наумовну, кресло ей поставили раскладное, а Матвей вытащил скрипку из футляра, помахал приветственно музыкантам на нашем берегу.
Ну разве смогу я описать привычными словами всё, что было потом? Разве можно словами описать музыку? Или настроение? Или состояние? Разве можно описать то счастье и радость по обе стороны Прута? Это надо было там присутствовать. Нет, это слушать надо было. Как Миша Каранида дал команду: «Янкель! Ну?! Хай! Инклоц ин барабан ши оплякат!!!» – и заиграл этот импровизированный оркестр для мамы Янкеля.
Как же они играли! И «Дойну», и «Фрейлакс», и танец польских кавалеров «Краковяк», и «Рула-тирула», и «Мейделе, мейделе». Матвей, весело пританцовывая, подыгрывал из Румынии. А кто-то смотрел на ту сторону в бинокль и комментировал:
– Смеётся! Ева Наумовна смеётся!
– Ева Наумовна плачет, слёзы вытирает!
– Ева Наумовна руками! Руками танцует! Танцует руками и плечами, Янкель! И головой танцует, Янкель, под музыку! И смеётся! И плачет, Янкель!!!
А Янкель знай наяривал, лупил по барабанам и подпрыгивал под музыку, чтобы угодить своей маме, танцующей руками на той стороне, в Румынии…
Вот такая вот история. Давным-давно ушла мама Янкеля и Матвея в другой мир. Теперь Янкель спокойно может съездить к брату в Румынию, – по новым законам это очень легко и можно поехать в любое время. И Матвей сюда к нам приезжал, с музыкантами встречался, играли вместе… Понравилось ему тут у нас. У нас ведь очень хорошо. Рай практически. Все люди, живущие здесь, уверены, что даже если ангелы тут и не живут, то, отдыхая от своих забот, частенько прогуливаются…

Марианна с лауреатами и членами жюри
Первого сезона Премии Исаака Бабеля.
О чем дева плачет
Однажды в молодости (ранней) мне надо было срочно замуж. Нет – не потому, почему вы подумали. Хотя тогда я уже была готова хранить верность, и воспитывать детей. Но сначала очень хотелось в Великобританию. И если б была я замужем, тогда меня бы выпустили беспрепятственно. Если нет – тогда это вопрос. Даже три. Зачем я туда еду? Чем я там буду заниматься? Вернусь ли обратно? Такие вопросы часто задавали насупленные ехидные дяди во времена моей молодости (ранней).
Претендентов на мою руку было много, но ведь хотелось же, чтобы навсегда, и по любви, и не прогадать... И снится мне как-то ночью упоительный сон. Будто плыву я по морю, а навстречу мне плывет заяц. Ну как в кино: такой целеустремленный, суровый, нелепый заяц, уши висят по бокам унылого лица. Энергично шлепает по воде, подгребает одной передней лапой и отфыркивается. А в другой лапе держит, высоко приподняв над водой, счеты – старые бухгалтерские счеты с деревянными костяшками.
– А зачем тебе счеты? – поинтересовалась я.
– Не «тебе», а «вам»... – огрызнулся заяц, продолжая шлепать по воде.
– Вам... А вас много? – завертела я головой, надеясь увидеть стаю умалишенных зайцев с бухгалтерскими счетами в лапах.
Заяц закатил свои косые глаза и прошипел:
– Где ты воспитывалась? К незнакомым людям надо обращаться на «вы»!
– А зачем вам счеты? – осторожно переспросила я, проигнорировав воспитательный момент и то, что зайца этого с натяжкой можно было назвать «люди».
– Счеты? Хм! – презрительно хмыкнул заяц. – Чтобы считать! – отрезал он и зафыркал еще энергичнее.
Мы продолжали плыть рядом, в одном направлении, и было как-то неловко молчать. Тем более, я заскучала: все же это был мой сон, и значит – я виновата в том, что он скучный.
– Э-э... А... – только заикнулась я.
– Можешь не утруждать себя светской беседой. Ты все равно ничего умного не скажешь! – оборвал меня заяц и поплыл еще быстрее, ловко перебирая свободными от счетов тремя лапами.
Плыву я рядом с этим высокомерным зайцем и думаю, какой странный мне снится сон... К чему бы это? Тем временем заяц ловким движением швыряет счеты на берег, гневно на меня взглянув, разворачивается и, фыркая и сплевывая, удаляется в открытое море.
Выплываю на берег в полном недоумении, а на берегу стоит... Фрейд, Зигмунд, в ленинском каноническом жилете. Стоит, перебирает костяшки на счетах. Ну, думаю, как кстати! И рассказываю ему, что снился мне только что заяц со счетами, грубиян, и с ушами. А Фрейд мне сходу:
– Это к замужеству. Но ты, майне либе, – говорит Фрейд, – должна сама узнать своего суженого. На нем будут усы и футболка с надписью, предположительно на английском языке. Так что давай – просыпайся и включай поиск. Даю три шанса. А я рядом буду. Незримо. Если что.
Фрейд ловко изогнулся и, пританцовывая, пошел по берегу моря, напевая: «О чем дева пла-ачет, о че-ом слезы льет...»
Наутро я встретила Павлика. («Айн», – тихонько прошептал Фрейд мне в ухо и перекинул слева направо костяшку счетов). Толстого румяного Павлика в усах и футболке, на которой был нарисован портрет большой жареной курицы в натуральную величину. Над курицыной грудкой ароматным дымком вилась надпись на английском языке: «Eat more» – «Ешь больше».
Присмотрелась: он – не он... Приуныла. Что-то не гляделся мне этот сытый Павлик. Дальше – больше. Павлик оказался квартирным маклером. И кроме усов у него были еще борода и портфель. Хм... Зачем квартирному маклеру портфель? Что он в этом подозрительном портфеле носит? Ужас!
Павлик, как выяснилось, оказался не просто маклером. Это был маклер-гроссмейстер. Он ухитрялся сдавать под жилье продуваемые ветрами беседки зимой и воздушные замки летом. И потом: я не успевала ему готовить, потому что он ел с перерывами в два часа, как недоношенный младенец. И так же орал, когда был голоден. А голоден он был всегда. Я прекрасно понимала, что это не те усы. И не та майка. Фрейд, засевший в моем подсознании, пожал плечами и засомневался: «Ты права, майне либе, вряд ли... Вычеркивай. Пойдем дальше». И я сначала покормила, а потом облегченно вычеркнула Павлика. И пошла дальше.
Через некоторое время я встретила фотографа из Сухуми. («Цвай», – продолжил Фрейд, и щелкнула вторая костяшка счетов). Фотографа с обезьянкой на плече. Обезьянкой в шляпе и в юбочке. Нет, сначала я услышала: «Дзеушкэ-э!» – оглянулась и увидела широченные мужские плечи. С женской грудью, нарисованной на майке. Под роскошным бюстом горела надпись на английском: «Хочешь?»
– Дзеушкэ-э! Пойдем хванчкару выпивать, еду кушать, сплэтни про артистов сплэтничать, э-э? – лениво-дежурно предложил фотограф.
– А жениться? – поинтересовалась я.
– Кэк? По-настоящему?! – удивился фотограф.
– По-настоящему. Я удочерю твою обезьянку! – предложила я.
– Это малчик! – честно признался фотограф.
– Усыновлю, – решилась я.
– Думать буду, – с уважением пообещал потрясенный фотограф. По видимому, ему еще никто таких смелых предложений не делал. – Завтра на пляж приходи. Всю правду скажу.
«Найн, никуда не ходи, – покачал головой Фрейд из моего сна, – найн. Он вообще не грузин. Он цыган! Вот продаст тебя в табор – цыганскому барону, тогда вообще никакой Англии не увидишь. И будешь ты работать нищей многодетной кормящей погорелицей, отставшей от поезда. Вычеркиваем! Вычеркиваем!»
Вычеркнула.
У следующего, Вовика, на майке была Декларация независимости США, мелким шрифтом. Вся.
– Вовик – разведчик-резидент! – скромно представился Вовик.
– А жениться? – потеряв всякую совесть, в лоб спросила я.
У меня оставалось мало времени.
– Можно! – к моему удивлению, мягко согласился Вовик, – Только у меня на первом месте моя секретная работа. Поняла?
Я понятливо кивнула.
– Встречаться будем раз в три года... – продолжал Вовик. – Взглядами! – уточнил он. – В кафе «Элефант». Согласна?
Ох, как меня это устраивало! И готовить ему не надо, и в табор не продадут, и с глаз долой, а главное – то, что в Британию меня отпустят беспрепятственно!
«Ты с ума сошла? – поинтересовался Фрейд из глубины души. – Он же двойной агент! С диагнозом! А провалится? Вот не выдержит – и, такой мягкий, интеллигентный, украдет в ресторане «Элефант» серебряную ложку! Уронит при выходе, испугается и вскрикнет «Ой, мама!» по-русски! И все раскроется! И посыплются явки, пароли, адреса, агентура... И оно тебе надо? – доверительно и тепло спросил Зигмунд Фрейд. – Вычеркивай этого хранителя военной тайны! Мальчиша-Кибальчиша! Вычер-кивай!»
Фрейд сотворил виртуозное танцевальное коленце, легким движением перегнал третью костяшку счетов: драй! – и пошел по берегу моря, печально напевая «О чем дева плачет...». На прощанье он оглянулся и крикнул: «Слушай, и зачем тебе этот замуж, а?»
И исчез.
И я подумала: действительно, зачем? Тем более – времена как-то быстро сменились, и меня выпустили в Британию незамужней.
Но до сих пор я брожу по планете и нет-нет – да и заглядываю в глаза мужчинам с усами и надписями на футболках. «Да-а... Это материал для Фрейда», – говорят мои знакомые.
«Дура ты, майне либе! – сказал бы Фрейд. – Усы-то можно и отрастить, майку – купить. Надпись написать. О че-ом дева плачет? О чем слезы льет?»
Гадкий котенок
Вообще-то Марианна специально для детей не писала. Но читатели говорили, что ее книги с одинаковым интересом читают и их дети. Даже рассказывали о возникающих иногда в доме потасовках -– кто первым будет читать?!
Но однажды Марианна взяла и написала специально для детей целую книгу.
Называлась она «Гадкий котенок». Книга была напечатана. И даже в 2021 году попала в десятку лучших книг для детей. Из более чем пяти сотен претендентов…
Как сообщали читатели, конфликты с детьми -– «Кто первым будет читать?!», и с этой книгой возникали…
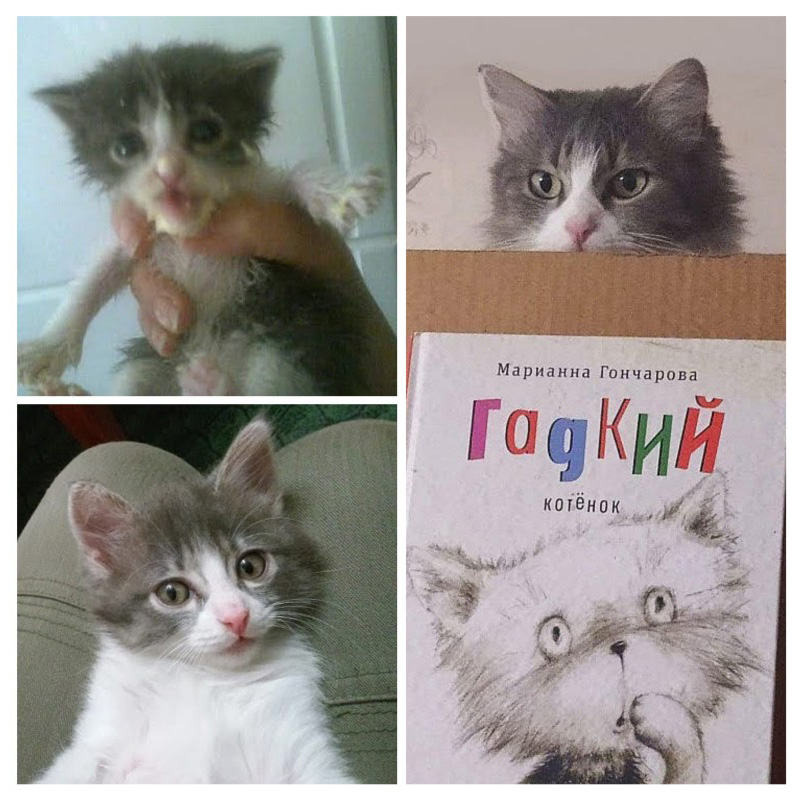
– Дядя, возьмите меня домой! – пропищало что-то серое, худое, размером с мизинец.
– Дяяяяядя! – скрипело что-то в траве.
– Я не дядя.
– Ну, тётя. Возьмешь меня, тётя, а? – надрывался кто-то, – Я буду верный ваш навсегда насовсем. А когда я приду в себя и чуть округлюсь, я заставлю вас, дядя…тётя! Кто вас там разберет в этих ваших штанах! Мааау! Я заставлю вас, ваших детей и всех ваших родных, прыгать от радости, что я у вас есть такой замечательный. Стану толстым красивым котом, ласковым и даже вороватым. А?! Ааа! Мяя?
Серое, худое с трудом выбралось из-под листа подорожника, доползло до туфли, зацепилось когтиками, преодолело длинный путь от носа туфли до застежки, забралось на ногу и повисло на брючине, продолжая орать.
– Ну пошли, что с тобой делать…
– Ага. Пошли-пошли. Я тебе скажу, что со мной делать.
Крошечный, лапы как четыре червяка, короткий жалкий треугольный хвостик, полуслепой. Он мне расскажет, а как же, он мне объяснит…
– И что с тобой делать?
– Кормииить! Кушать хочу, кушать, кушать, кушаааать!
Ну вот, понятно. Объяснил.
***
Он ковылял еле-еле. Когда торопился, а он всегда торопился, то путался в лапах, спотыкался и заваливался набок, а то и падал на спину вверх тормашками. Вокруг все гоготали как сумасшедшие и спешили помочь. Сам есть не умел. Разевал розовую пасть, растопыривался всеми тормашками, выкатывал глаза, дрожал и яростно требовательно орал.
Стали кормить из шприца – верещал, скандалил, подвывал, хватал шприц двумя руками и двумя ногами, чтобы не отняли, высасывал содержимое с такой скоростью, что поршень сам сдвигался вниз, а нам оставалось только придерживать котенка и шприц. Кот ел неаккуратно, чавкал, хлюпал, швыркал, молочная смесь заливала ему морду, живот, лапы и хвост. Он высасывал еду, мгновение еще мрачно разглядывал длань кормящую – что?, и это всё? – и тут же мягко отваливался, засыпал прямо в ладони. Мокрый. Теплый. Маленький. Скандальный. Одинокий. Безымянный…
Алиса Фрейндлих читает рассказ Марианны Гончаровой «Бабушка к доске»
В мае 2020 года в рамках «карантинного» радиотеатра великая легендарная актриса Алиса Фрейндлих читала рассказы Марианны Гончаровой.
Послушав ее чтение, Марианна сказала об этом так:
«Мне так удивительно, как чуткая Алиса Бруновна находит голосом, интонацией то, чего я вообще не придумывала, а оно там оказалось. Как она из смешного делает печальное, а из печального – очень смешное!».
А вот, что сказала о Марианне сама Алиса Фрейндлих:
«Добрая, нежная интонация этой писательницы сегодня нужна гораздо больше, чем какие-то драматические серьезные вещи, которые сейчас будут синхронны с ситуацией. Я ее открыла для себя и хочу просто поделиться с вами. Тот, кто знает её, будет рад еще раз это услышать, а тот, кто не знает, может быть, проникнется и поищет её книжки…»

Слушать рассказ на сервисе Soundcloud
Про Бориса Аркадьича
1
Мы с сестрой моей Таней, скажу вам, привыкли в детстве, что когда приходили в гости новые люди, то сначала они спрашивали, как нас зовут, потом в каком классе мы учимся, потом нас обязательно просили что-нибудь сыграть на фортепиано и спеть, а потом, уже расслабленные маминой вкусной едой и хорошими напитками, если мы вдруг попадали в поле их зрения, они отлавливали нас, приобняв, и душно спрашивали на ухо, а вот кого мы больше любим, маму или папу.
Признаться, именно этот момент нас с Танькой смущал больше всего. Мы даже проводили симпозиумы во дворе. И там был перечень тем: как уклониться от дурацкого вопроса, кого мы больше любим, как ответить, если не случилось уклониться, как ответить нейтрально, чтобы не обидеть ни маму, ни папу, но чтобы при этом было оригинально и смешно. Если бы беспечные взрослые знали, как основательно мы подошли к обсуждению этой проблемы, с какой серьезностью все наши дворовые друзья обменивались опытом и какие там звучали предложения – от канонического и в то время очень популярного «Дядя Петя, вы дурак» до мудрого и ультимативного «Это мое личное дело», – они бы, прежде чем задавать детям глупые вопросы, точно бы задумались.
Так вот дядя Боря был не из таких взрослых. Он – друг юности моих родителей – приехал к нам однажды в гости. И звать мы его стали Аркадич. Потому что тут же возникла путаница. Мой папа – Боря. Наш гость – тоже Боря. (Только папа – Зиновьевич, а дядя Боря – Аркадьевич.) И когда кто-то обращался: «А послушай-ка, Боря», оба вежливо, с готовностью и хором отзывались: «Да-да?» И все начинали смеяться, серьезного разговора не получалось, смех один и только. А к слову, мы все – мама, папа, сестра Таня, я и тогдашний наш кот Тяпа – мы всегда были прекрасными слушателями и собеседниками. И вот, пока мама возилась на кухне, я, подражая ей, образованной и гостеприимной, решила развлечь гостя разговором и спросила, специально понизив голос, стараясь выглядеть умной и начитанной:
– Борис Аркадьевич, а что вы читаете? – имея в виду книги, мама и ее гости всегда одним из первых задавали друг другу этот вопрос.
– Математику, – просто ответил дядя Боря, имея в виду предмет в своем университете.
–– Нет… Я имела в виду, что вы читаете в свободное время? – светским тоном уточнила я.
– Справочники. По математике, –– спокойно ответил Аркадич.
– Интересно, наверное… – с сомнением прокомментировала я.
– Да, легкое чтение, – беспечно кивнул дядя Боря-Аркадич.
Хотя, конечно, он читал много и регулярно. И не только справочники по математике.
Он никогда не задавал нам глупых вопросов. Он задавал вопросы себе. Умные. Иногда как бы от нашего имени. И сразу отвечал. Емко, четко, коротко. Потому что дядя Боря был, как, надеюсь, уже ясно, известный профессор математики.
Например, он говорил:
– Вот вы спрашиваете – Москва…
Мы с сестрой мотали головами, мол, нет-нет, дядя Боря, мы не спрашиваем… А мама и папа одновременно нам ногами под столом – тыц! – а ну тихо!
– Вот вы спрашиваете – Москва, – продолжал он. – Ну что Москва…
И начал наизусть шпарить статистические данные: количество населения, площадь, протяженность, географическое положение. Причем все это с точностью до квадратного сантиметра.
И вот когда он дошел в своем рассказе до размера Красной площади, Танька, лучшая воспитанница и самая умная девочка по версии дошкольного учреждения номер два «Колокольчик», тоже захотела показать свою эрудированность и спросила:
– Дядя Боря, а вы Ленина видели?
– Ну разумеется, – отмахнулся он от Таниного вопроса и только набрал воздуху, чтобы продолжать перечислять цифры про Москву и Московскую область, Танька налегла всем телом на стол и с придыханием перебила:
– Дядь Борь! Дядь Борь! И чево он вам сказал?
2
У дяди Бори-Аркадича, кроме совершенного знания всех законов математики, было отличное увлечение: постоянное совершенствование немецкого языка. Дядя Боря и так владел им безупречно, но чуть ли не каждый день что-то читал на немецком, переводил и слушал всякие вражеские немецкие голоса. И, к слову, писал на немецком безо всяких переводчиков свои научные статьи.
А однажды он съездил в ГДР.
Началось с того, что его статью должны были напечатать в научном журнале Академии наук ГДР. Дядю Борю вызывали в скромный незаметный кабинетик на самом краю института, где он работал, и вкрадчиво спросили:
– Борис Аркадьевич, а не содержит ли ваша статья какие-либо открытия?
«Да», – с гордостью подумал тогда дядя Боря, но вслух ответил, как его научили старшие коллеги:
– Нет.
– А инновации?
«Да», – опять не без гордости подумал дядя Боря и ответил:
– Нет.
– Изобретения?
«А как же!» – подумал и сказал:
– Нет.
– Имеет ли ваша статья теоретическую или практическую ценность?
«Еще бы! Еще какую ценность!» – подумал дядя Боря и ответил:
– Нет, ну что вы… Это вообще бесполезная статья, никому не нужная статья, специально для заграничных немецких товарищей статья…
– А-а-а-а, ну что ж, тогда вы подпишите, что этого вышеперечисленного в вашей статье нет, и мы подпишем вам разрешение на ее публикацию в немецком научном журнале.
После публикации этой никому не интересной бесполезной статьи в журнале Академии наук ГДР дядю Борю пригласили в эту самую ГДР на симпозиум. Чтобы, значит, эту никому не нужную бесполезную статью прокомментировать в чуть более расширенном виде – сделать небольшой докладик и уложиться ну, часика эдак в два, в крайнем случае, в два с половиной. Докладик такой. Маленький.
– Вы никак не можете ехать в ГДР на симпозиум, – опять сказали в маленьком кабинетике на самом краю его института.
– Почему же не могу?.. Как раз могу… Я до сентября совершенно свободен, – возразил дядя Боря.
– Нет, не можете!
– Почему?
– Потому что у вас нет опыта проживания за границей.
– А где ж я его возьму, этот опыт? – ехидно поинтересовался дядя Боря. – В Болгарию, Польшу и Японию меня не выпустили по той же причине…
– Вы не можете ехать, – опять спокойно возразили ему. – Идите. Вы свободны.
– Я свободен? – усомнился дядя Боря и опечаленный пошел.
Через некоторое время, после длительных переговоров между академиями наук ГДР и СССР, дядю Борю опять вызвали в маленький кабинетик на самом краю института.
– Ну ладно, так и быть, – впрочем, довольно осуждающе сообщили дяде Боре, – учитывая отсутствие у вас опыта проживания за границей, с вами поедут… эм… эм… два наших ученых. И аспирант. С опытом. Чтобы вам помогать, подсказывать и направлять.
– Ученые? – переспросил наивный дядя Боря – В области прикладной математики?
Незаметный мужчина невнятного возраста и незапоминающейся внешности внимательно посмотрел дяде Боре в глаза, ухмыльнулся и вкрадчиво ответил:
– Скорей, в области… зоологии.
Дядя Боря пожал плечами. Он всегда пожимал плечами, когда ничего нельзя было изменить.
Перед отъездом жена и теща стали запихивать в чемодан дяде Боре икру. На продажу. Мол, продашь, купишь всего побольше…
– Кому продавать? – бился в истерике дядя Боря. – Кому я могу продавать? Я даже покупать не умею! – паниковал дядя Боря. – Я что, буду стоять в магазине, или на рынке, или у входа в метро в этих… в нарукавниках? белых? – паниковал дядя Боря.
– Да успокойся ты, Боречка, к тебе подойдут и спросят, – уговаривала жена. – Подойдет к тебе кто-нибудь и спросит тихонько, сквозь зубы, незаметно, мол, икра, икра, прием, прием…
– Да вы что?! Я не могу!!! – орал в панике дядя Боря. – Со мной же едут… эти… зоологи! Два! И аспирант их с опытом. Их… Их…тиолог!..
– Кто?
– Специалист. По рыбам.
– Ну вот! – обрадовалась жена, суя в руки дяде Боре баночки с икрой. – Ну вот же!
– Меня арестуют!
– За икру? – абсолютно искренне удивилась жена.
– Ну и ладно, – почему-то покладисто согласилась теща, – ладно, Боречка, – не хочешь – не надо. Раз ты нервничаешь. Не надо… Ведь для нас главное что? Чтобы ты был спокоен, – ласково пела теща. – Чтобы твой доклад прошел успешно. Чтобы вклад в мировую науку, – заливалась теща, – все-все-все, Боречка.
Когда дядя Боря нам это рассказывал, он с обидой добавил:
– И ведь недаром австралийские аборигены курнаи смертельно боятся своих тещ! Не зря они уверены, что если вдруг тень тещи упадет на мужчину-курнаи, а тем более спящего – то все, считай, все пропало, вся жизнь – коту под хвост, тебе конец. Вот как! Теща, – рассказывал в подробностях дядя Боря, как будто читал нам лекцию, – теща, как испокон веков учили вожди племен острова Новая Британия, это существо пострашней тигра, коварней пантеры, сильней слона и могущественней даже самого-самого-самого припадочного, самого исступленного, самого дикого шамана. Еще в наскальных своих рисунках древние племена изображали чудище – мать своей жены, тещу от трех головах и пяти ядовитых хвостах!
Короче, теща нашего дяди Боречки-Аркадича никого не подвела: ни аборигенов курнаи, ни племена островов Новой Британии. Она подвела только зятя своего Бориса Аркадьевича, и оправдала все подозрения псевдоученых – зоологов и также аспиранта-ихтиолога с опытом. Зловещая беспощадная тень тещи пала на Боречку в аэропорту как раз на контроле багажа: из каждого второго носка в чемодане таможенник выудил баночку черной икры, а у Боречки их, этих носков, было семь пар
– Антисоветчик какой-то! – возмутился один из зоологов. – Ты вообще с ума сошел?!
– Это не я! – стал оправдываться дядя Боря. – Это теща! И, воспользовавшись самой страшной, некогда вычитанной клятвой племени туземцев Новой Британии, промолвил:
– Если я лгу, сэр, пусть мне доведется пожать руку собственной теще.
Один из зоологов юркнул куда-то в таинственную служебную глубь и уговорил таможенников, ненавистников черной икры, чтобы Боречку, тайно вывозившего тещину любимую еду, все-таки пропустили за границу. Уж больно ему самому тоже хотелось в Германию, тем более свою икру он спрятал понадежней.
– Ну все, теперь ни на шаг от нас! – рыкнул по-львиному старший зоолог, а его прайд вместе с начинающим специалистом по рыбам сурово кивнули.
Короче, когда прилетели в Берлин, зоологи прилепились к нашему дяде Боре, как рыбы-прилипалы, и стали за ним повсюду таскаться, чтобы, не дай Бог, не прозевать с его стороны какого-нибудь очередного антисоветского выпада.
А дядя Боря, он ведь был очень любознательный. Бродил по музеям, картинным галереям, гулял вдоль улиц в старинных кварталах, ходил в театры. И зоологам тоже приходилось следовать за ним, уныло разглядывая экспонаты и зевая на пьесе Шиллера на немецком языке. И хотя, в отличие от дяди Бори, они как раз могли тратить столько марок, сколько хотели, в пределах разумного, но очень экономили (нет, не для Родины, а для себя).
Как-то зоологи в очередной раз притащились с дядей Борей в театр. Пришли, у двери бабушка-капельдинер стоит. Старенькая, но элегантная и бойкая. И дядя Боря купил у нее и программку, и проспект, и еще что-то там, и заплатил за прокат бинокля. А зоологи и аспирант-ихтиолог – нет, не купили, пожадничали. И вот после антракта, когда они все чуть не опоздали в зал, капельдинерша, которая уже закрыла двери, покачала зоологам головой и махнула рукой, мол, идите-идите, тут уже закрыто, не надо было опаздывать, вокруг идите, через дежурную дверь, – крутила старушка пальцем, указывая зоологам долгую дорогу. А дядю Борю она придержала за рукав элегантного пиджака и шепнула ему:
– Битте, герр! Вам можно, потому что вы у меня купили и программку, и буклет, и что-то там еще, и заплатили за прокат бинокля.
Ох, зоологи и разозлились! Пока они добежали, пока пробрались к своим местам, дядя Боря уже там сидел и наслаждался. И они, такие свирепые, даже подумали, что дядя Боря с бабушкой-капельдинершей вступил в преступный антигосударственный сговор и потребовали сказать, о чем он с ней говорил. И дядя Боря, как человек честный, им признался и повторил слово в слово, все то, что ему старушка нашептала.
А по вечерам специалисты по фауне и аспирант по рыбам собрались в номере и что-то записывали в блокнот. То есть один ученый, самый грамотный, писал, а другие ерзали и подсказывали, какую гадость в список прегрешений дядя Бори еще включить.
А наш дядя Боря, какой молодец, сначала сорвал аплодисменты коллег на симпозиуме, поразив всех своим докладом, а потом как пошел совершать подвиги во славу нашей Родины, прям ну не остановить было его.
Он ведь, дядя Боря наш, добрый рыцарь. Ох, недаром же мы с сестрой в самом раннем детстве думали, что Александр Сергеевич именно про Борю нашего Аркадича написал своего Бедного рыцаря. И распевали на все голоса, когда он должен был приехать: «Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой…»
Да, это он – Борис Аркадьевич – всегда кидался поднимать упавших, провожал домой пьяных, помогал деньгами или еще чем-нибудь тем, кто просил, и обязательно переводил детей и старушек через дорогу. Не насильно, конечно, а по их доброй воле. То есть просто так не приставал. Очень воспитанный был мужчина. Хотя почему «был»? Он есть. И такой же воспитанный.
Между прочим, он однажды даже сдал экзамен по математике вместо своего друга Коки Зингера на заочном отделении торгового института. Кока ему говорит:
– Слушай, Борька, у меня экзамен завтра, а я ужасно влюбленный в одну Ларису, только про ее глаза все время думаю и ни черта не учу совсем. И на парах вообще не был, преподаватель меня в лицо не знает. Может, пойдешь, сдашь за меня, а? Ты субтильный, черненький и лысоватый, я тоже стройный, черненький и лысоватый, фотография на зачетке выгорела, сойдет.
И Боря, потирая руки, сказал:
– О! Здорово! Конечно, Кока, какой разговор, с удовольствием сдам.
И сдал. А потом уже выслушал:
– И-ди-о-о-о-от! – Кока визжал, – Ты что наделал? Кто тебя просил открытия делать?! Эту письменную работу выставили на кафедре как образец талантливой экзаменационной работы! Что я дальше буду делать?! Как я буду зачеты сдавать, где я тебя буду искать?! Зачем ты сдал на «отлично»?!
– Ну во-первых, – ответил польщенный Боря, – не на «отлично», а на «блистательно» с восклицательным знаком, а во-вторых, садись и учи, Кока. Учи с утра и до утра, учи математику. Потому что преподаватель сказал, что он теперь с меня, то есть с тебя, Кока, глаз не спустит, сказал, что я, то есть ты, – надежда отечественной математики. И он не думал, что на заочном отделении учатся такие самородки. И это, между прочим, я еще был сонный, не в полную силу отдался ответу на поставленный вопрос и даже специально сделал ошибку в ответе на дополнительный.
Кстати, Кока сейчас – профессор, заведующий кафедры математики университета в Мичигане.
Вот такой хороший друг наш дядя Боря.
Но вернемся в Германию.
Зоологи в последний вечер, конечно, тоже поволоклись за дядей Борей, который решил посвятить оставшееся время любованию городом. И когда он так гулял, сопровождаемый сопровождающими, к нему, такому элегантному, в шляпе, с зонтиком, на переходе подошла старенькая дама и, глядя на него снизу вверх, попросила:
– Битте, герр, гафаллен, если вы тоже идете в этом направлении, переведите меня через дорогу, – старенькая дама просительно смотрела на Боречку.
– Конечно-конечно, фрау, – обрадовался дядя Боря и свернул руку колечком.
Старенькая дама вцепилась дяде Боре в локоть, да так, что он, добрый, милый, воспитанный дядя Боря, аж перекосился на левый бок, но старенькую даму тянул через широченный проспект ответственно и степенно, старательно подбирая шаг под меленькие шажочки своей спутницы.
– А не хотите ли чаю, герр… э-э-э… герр…
– Альтшуль, – честно представился дядя Боря.
– Да, не хотите ли чаю, герр Алтьшуль, у меня в саду под деревьями?.. – спросила старенькая фрау, когда ее благополучно доставили на другой берег проспекта.
– Я бы не отказался, – сотворив лихое коленце, аккуратно держа лапку старенькой дамы, вдруг весело, даже удивившись самому себе и своей смелости, ответил дядя Боря, – но, увы, я здесь не один. А с моими коллегами, – он широко повел рукой в сторону.
Старенькая фрау оглянулась, увидев, как и следовало ожидать, отряд зоологов с их юным, но опытным бойцом – водоплавающим коллегой. Они стояли в стороне – мрачные, уставшие от непонятного языка, от театров и музыки, окосевшие от картинных галерей, утомленные архитектурой и долгими прогулками.
– Стояли кучкой, – рассказывал нам потом дядя Боря, – такие печальные, заморенные, угрюмые, что мне вдруг стало их ужасно жалко, и я, извинившись перед старушкой, повел их в биргартен – пивной бар и там угостил пивом и колбасками… И за столом, выпив и расслабившись, они вдруг разговорились, обсуждали все увиденное и услышанное в ГДР, благодарили, что без дяди Бори они так и просидели бы в пивных барах и ничего не увидели и не услышали, а так есть что вспомнить и рассказать женам и детям.
«И тещам», – подумал мстительно тогда дядя Боря.
Поскольку после участия в симпозиуме в ГДР у дяди Бори наконец появился опыт пребывания за границей, и так как его доклад имел оглушительный успех в научном мире математиков, в другие страны он ездил уже сам, без сопровождения ученых-зоологов и аспирантов-ихтиологов.
А может быть, он их просто не замечал.
Мы его спросили, мол, Борис Аркадьевич, а вы не боялись вот так в Америку, в Японию, во Францию, в Италию, в Данию, в Австрию, в княжество Лихтенштейн ехать один…
А дядя Боря нам:
– Да я в Трускавце, в санатории, с шахтерами дружил!!! А они знаете как пьют?! Вот где было страшно.
Ереванские таксисты
Особая каста, особый народ в Ереване – таксисты.
– Ви-иа-аткуда? Су-укра-а-аины? Харошая страна – там многа армян.
– Да, – соглашаюсь.
– Артёом знаити?
– Эээ… Нет.
– А Ладик знаити?
– Давидян?
– Можит, Давидян. Можит, ни Давидян. Пачтенный чилавэк. Всэм памагаит. Всэм. Чилавек прихо-о-одит, гаварит, Ладик-джан, памаги. Ладик сразу памагаит. Ни спрашиваит, ты армянин, ты кто. Памагаит – и все. «На! – гаварит. – Я имею, тибе даю. Ты будешь иметь, давай им. Те дадут другим. Другие дадут мне». Все его знают. А-а-армяне – ни-иармяне. Все.
Хороший человек Ладик. Кто такой, где живет у нас в Украине, неважно. Хороший человек.
*
Сажусь на заднее сидение, здороваюсь. И сразу смеюсь. Потому что не было случая, чтобы таксист в ответ на мое приветствие не протянул вверх руку и не сдвинул зеркало заднего вида, чтобы посмотреть, кто сел и спросить:
– Нравится Ереван?
*
– Эта будит двэ тысячи. Даже двэ тысячи двэсти. Далико ехать, – таксист везет меня из спального района, где я встречалась с подругами, теперь спешу в центр города, переодеться и в филармонию.
– Ну хорошо, – соглашаюсь я.
Таксист хлопает ладонями по приборному щитку и кричит на меня хрипло, сурово глядя в зеркало заднего вида:
– Ты что, женщина?! Атэц-брат-муж нэ учил таргаваццэ? Таргуйся! А то щас высажу тибя на тратуар около библиатеки пишком хадыть.
Я в ответ бойко:
– Тысяча!
– Нээт, – он в ответ вдруг голоском тоненьким игривым, – Двээээ.
–Тысяча пятьсот!
– А я гаварю двэээ… – парирует он ласково и улыбается.
– Ну ладно, две. – соглашаюсь я.
– Нэ уступай! – вдруг кричит он азартно и гневно как тренер на решающем футбольном матче, – Гавары «тысча шыссот»! Гавары!
– Тысяча шестьсот! – ору я.
– Нэ-эт, – опять спокойно тоненько и нежно возражает: – Двэ-э-э.
– Ну хорошо…
– Ай! Учы ни-и учы! – махнул рукой, – па-аехали.
У гостиницы выхожу, отдаю две тысячи.
Таксист:
– Ни поняа-ал! А ищо двэсти где?
*
– Откуда? Из Укра-аины? Там плимяник живет. Днепраптров, знаити?
– Днепропетровск. Знаю.
– Там плимяник. Тут работа не-ет, там пае-е-ехал, ристаран актры-ыл. Харашо. Хо-о-одит, гуляа-аит. Я был. Панра-авилось. Хади-и-ил. Гуляа-а-ал. – После паузы: – Нравица Эриван?
– Очень.
– Да-а-а. Красивая страна. Крас-с-сывый горад. Работа тока нету. А так – красивый. Ходи-и-и-и, гуляа-а-а-ай…
*
– Откуда? Из Укра-аины? А у вас там работа эсть?
– По-разному.
– А тут мало. Нэт пачти. Син институт закончил. Харашо учился. А работы нету п’а спицалнасти.
– И что делает?
– Ничиво ни делаит. Так сидит.
*
Как только машина трогается, всякий таксист сразу заводит беседу. Вообще мне по душе, что армяне охотно и легко вступают в разговор. И каждый таксист везет тебя по Еревану и заботится, чтобы ты, бестолковая женщина, хоть что-нибудь увидела по дороге, потому что кто тебе еще объяснит и покажет что-то красивое в этом городе, как не он.
– Нравится в Эривани?
– Очень!
– Каскад видела? Как ни видила?! Ни видила кА-аскад? Щас па-аедим.
– Нет-нет, – кричу. – Я спешу. Я потом посмотрю, обещаю.
– Кагда?! Кто-о-о тибе пакажит? Ана пасмотрит! Каскад! Там всео-о-о! Там центр искусствий! Там старинныи рукаписи! Там парк скульптур! Акоп Акопян знаишь? Э! Дажи я знаю! Щас паедим. Па дароге увидишь.
Пришлось смириться.
*
– Нравица Армэния?
– Нравится!
– Очень, да? – с уверенностью переспрашивает.
– Очень-очень, да!
– А чьто-о-о! Армяни – они древний на-арод, чьто! Везде живео-от. Би-и-или, гоняа-а-али, геноцид, а мы – все равно везде. И луч-чие! Сма-а-атри: луч-ч-чие стаматолаги – армяни, луч-чие фатографы – армяни, луч-чие актео-о-оры – армяни, луч-чие художники – армяни, луч-чие музыканты – армяни. Луч-чие друз-зя! Армяни – тут он каждое слово сказал раздельно и медленно – луч-чие. Сами-и. Верни-и. Друз-зя! И еще – Азнавур французский есть пивец зна-амнитый, знаишь кто?
– Кто? – рассеянно и устало я.
– Кто-кто? Ни дагадалась? Арминин! Вот кто! Понила?
*
Маленький прокопченный солнцем мужичок везет нас с Наринэ на девичник к Лилит. (О девичнике будет, о! будет позже.) Размахивая руками над рулем, кричит. Наринэ переводит:
– Смотри, – кричит таксист, призывая Наринэ и мир в свидетели, – смотри! Все они имели ослов. Они все ездили на ослах. Теперь продал осла, купил машину, сел в нее, завел и поехал. Они как думают, на автомобиле – как на осле, поворотники не надо включать. У осла есть поворотник? Нету.
Услужливый таксист – мы ведь спешим. Спешим к Лилит. Она просила быть ровно к двум у подъезда. А мы опаздываем. Не можем найти ее дом. Таксист уже несколько раз останавливает машину, выскакивает, спрашивает у людей. Те охотно отвечают, рассказывают ему что-то на армянском в подробностях, что-то вроде «поедешь туда, потом туда, потом туда, потом так, потом эдак», и ладошками машут и вертят, как в танце. Я вдруг замечаю, какой он маленький, наш таксист, росточек ну метр сорок, не больше. Потом за столом у Лилит рассказываю девочкам о нем, жалею, говорю, он такой маленький. И Наира, художник-мультипликатор, мгновенно:
– Да? А он что-о, вёол ма-ашину сто-о-оя?
Таксисты в Ереване легко могут заменить радио, телевидение, интернет и газеты. Они знают все и обо всех. Таксисты мудры и политически подкованы.
Мне кажется, если армянские таксисты соберутся все вместе, то они легко могут отобрать у турков свой Арарат обратно.
Зачем драться? Зачем стрелять, что ты?!
Мирным путем.
Путем убеждения! Айо. (Что означает «да».)
Грыгоровыч и Филюнин
Обожаем мы друга нашего, Грыгоровыча. Как ни приедем, так он нам историю интересную подкинет. И хоть киносценарий с нее пиши, и все тут.
Вот, например.
Грыгоровыч наш свою хату оставил старшему сыну и его семье, а сам купил себе домик поменьше в нашем городке, почти рядом со своей заставой, где всю жизнь проработал старшиной. И только переехал, только устроился, начались неприятности, откуда не ждали.
Короче, смотрите.
*
Бабки на лавке рядом с амбулаторией друг друга локтями толкают, мол, глядите, глядите, опять Филюнин, сосед Грыгоровыча, в контору к участковому побежал.
В конторе:
– И главное – что?
– Что? – спросил участковый.
– Водка у ево резиной пахнет. Потому что – что?
– Что? – опять спросил участковый.
– Потому что ворует. Выносит в грелках.
– Где ворует?
– А хто ево знает хде. Может, и на заставе… – покачал головой Филюнин. – Но точно ворует. Он же ж мне наливал, когда первый раз в свою новую хату входил. Налил мне, себе, а потом кошку в хату впустил. А она резиной воняет.
– Кошка?
– Водка!
– Слушай, Филюнин, а Филюнин? Прекратил бы ты стучать. Какой же характер у тебя вредный и неугомонный. Вон и сына научил. Уже весь детский сад жалуется, что он всех щиплет. Уже не только детей, а недавно нянечку, мою тещу, ущипнул.
– А пусть он мне мой метр отдаст. Вдоль, – плаксивым голосом заскулил Филюнин. – Отрезал себе мою землю вдоль и засадил своими смородинами и крыжовниками.
– Да ничего он у тебя не отрезал, мы ж проверяли. Иди отсюда, Филюнин, дел полно, а ты голову мне морочишь.
*
– Слухай, Диомидович, я так больше не могу! – жаловался участковому Грыгоровыч. – Филюнин сдурел совсем! То он забор двигал – три раза! Шурудел всю ночь, пыхтел, копал. А когда я с жинкой и детьми на свадьбу до кума в Молдавию уехал, так он, неуемный, свой забор вообще почти до моей хаты переставил. А когда я посадил между нашими дворами смородину, так он мне ее всю порубал. От же ж хворый на голову! Та ж не бытыся мэни з ным! Воно ж худеньке, малэнькэ, ще й пье. А подохнэ?
– Не знаю, Грыгоровыч, до тебя в той хате учителя жили, так повтикалы – Филюнин их довел, требовал в десять часов свет в хате выключать, потому что ему в очи светит и он спать не может. Ходил туда, в окна подглядывал и стукал. И ничего не помогало – ни уговоры, ни угрозы, ни шторы плотные, ничего. Затемнение повесили, знаешь, как в войну, не дай боже, так летом же ж хочется воздуху. Кислороду…
– Ладно, – Грыгоровыч встал, снял с вешалки кепку, – не можешь повлиять, Диомидович, я тада сам.
– Э! Э! – участковый потянулся всем телом из-за стола вслед за Грыгоровычем. – Ты там без криминала, а то вон у тебя под яблоней – бутыль водки закопана. Ворованная.
Грыгоровыч резко повернулся в дверях, бессильно развел руками и помотал головой:
– Диомидович! И ты? Не водка, а вино домашне. На свадьбу младшему… И не бутыль, а бочка! И не пид яблоней, а пид грушею. От же ж!
– А что ж ты ему наливал? Самогон?
– Якый??? То ж виски! Виски! Знаешь такэ?.. Так. Всэ. Воювать так воювать.
Грыгоровыч сплюнул и вышел.
*
Ну что тут можно сказать? А вот…
Прошло полгода.
Грыгоровыч наш мужик мудрый, терпеливый. Дождался-таки, когда Филюнины уехали на несколько дней. А у Грыгоровыча брат есть, тоже Грыгоровыч, из Шешор, могучий дядько, еще больше, чем наш Грыгоровыч, такой медведь карпатский с бородой окладистой… Наш, значит, Грыгоровыч – старшина на погранзаставе, а брат его, ну который тоже Грыгоровыч, но с бородой, он каменщик, строитель, а главное – пасечник. И лекарь народный. Ну и всяко другое умел делать загадочное. Но не всегда хотел.
Да. И что они придумали: когда Филюнин с семьей в гости уехал к теще, залезли к Филюнину на крышу и в дымоходе… А-а-а-а! И в дымоходе аккуратно вытащили один кирпич, а вместо него установили пустую бутылку горлышком вовнутрь. Замуровали, заштукатурили. Ну и все. Теперь надо было просто подождать.
*
Филюнин приехал через два дня и семья его тоже: жена – незаметная, как тень, сынок –худенький вихрастый конопатый, с шкодливыми глазками. Филюнин походил туда-сюда, носом поводил, что-то шагами померил между своим домом и домом Грыгоровыча, скривился, покачал головой.
– Ага! – покивал в свою очередь Грыгоровыч из-за занавески. – Давай-давай, чого ж, меряй, меряй.
Ну и вечер наступил. Спать пора. А тут ветерок такой поднялся. Обычный для сентября. Правда, для кого обычный, а для кого и не очень. Ночью у Филюнина дома вдруг завыло. То как зверь, как говорится, то как дитя. То вообще как непонятно кто или даже что.
Грыгоровыч краем чуткого своего уха слышал, как опухший без сна Филюнин утром рано ябедничал кому-то по телефону, что ночью выло, меняло интонацию, грозилось, что дом дрожал, что боялись спать, а утром все и прошло.
– Ну так да, – пожал плечами Грыгоровыч, бормоча себе под нос, – ветер же утих, воно и мовчыть.
Филюнин вызвал участкового. Тот пришел, понятых взял, опять же свидетелей, болельщиков набежало со всей улицы (болели-то, признаться, не за Филюнина, а за того, кто как зверь и как дитя). Протокол составили, еще участковый подозрительно косился на Грыгоровыча, а тот как раз на работу собирался, ремень затягивал, косясь в соседний двор, в свой «уазик» садился. Но ничего противозаконного не нашли. Люди стали шептаться, что «пороблено и наврочено», то есть что сглазили хату Филюнина.
– Это не ко мне, Филюнин. Это… – участковый, уходя, пальцем незаметно погрозил Грыгоровычу. – Это ты сам разбирайся. Даже и не знаю с кем.
А Грыгоровыч посмотрел на участкового Диомидовича прямо, брови возмущенно поднял: «Шо? А я при чем?!»
*
На следующий день опять из открытого окна было слышно, как жена Филюнина Орыся, женщина ранее совершенно безответная, выла и голосила, в точности как этот кто-то или что-то, потому что всю ночь протряслась от страха. И в доме страшно было, и на улицу еще страшней выйти, потому что неизвестно, где, откуда и кто воет:
– Зови батюшку! – кричала она. – А то уйду и сына заберу! Осточертел ты мне, Филюнин, осточертел!!!
Через пару часов во двор явился батюшка при параде, матушка благостная ласковая на сносях, суровые три, одинаковые на лицо и платки, бабушки – певчие. Принесли два ведра святой воды.
– О, – обрадовался Грыгоровыч, потирая руки, – а у меня как раз выходной. И уселся в садочке осеннем под облетевшим наполовину орехом за стол вареники кушать. Поближе к соседям, чтобы все видеть из-за кустов, все слышать. Как в телевизоре, только интересней, – смотреть, как эта процессия сначала вокруг хаты пошла брызгать, а потом уже внутрь все зашли и запели.
Одна, которая из бабушек-певчих, потом рассказывала, что сначала у них вообще конкурс был, кто пойдет, все ж хотели знать и видеть, что там у Филюнина в хате. А потом, когда всю хату покропили щедро, матушка, подпевая батюшке, по ходу еще интересовалась, мол, а тазики такие хорошие, где брали? А кто ремонт вам делал? А мебель из дерева или нет? А сколько стоит? Ну словом, не даром пришли. Отобедали плотно, обсудили, что все это пороблено, и пошли с миром, заверив, что теперь будет тишина и покой.
А вечерком, не дожидаясь полуночи, опять завыло-разгулялось. Причем под осенний ветер ревело зловеще и причитало конкретно, чуть ли не словами разными ругательными. Филюнину чудилось всякое. Он лежал без сна, одетый, и вдруг стал вспоминать, как ручку в пятом классе у Дмитренко Наташи украл, а свалил на Сокирку Петра. И Петра наказали. Не приняли в пионеры. А его, Филюнина, приняли. И Петро Сокирка подошел и сказал, мол, как ты можешь, Филюнин, носить красный галстук с нашим знаменем цвета одного после всего. А Филюнин только смеялся. Потом Филюнин стал вспоминать, как воровал картошку на огороде председателя сельсовета, и не потому, что картошка нужна, и своей было достаточно, а так, из вредности, что он – председатель сельсовета, а Филюнин – нет. И соседям-учителям пакости всякие делал, кипяток под их виноград вылил, и виноград засох. И еще много другого… Когда стало светать, под яростный вой «Ка-а-а-а-а-а-айся-а-а-а!!!», он и впрямь почувствовал угрызение совести, слабое, правда, что напрасно он жалуется на новых соседей, мол, они его землю забрали. Но когда совсем рассвело, подумал, а чего это вдруг, и все-таки решил, что они ему все равно должны метр. Вдоль!
*
Утром жена, безответная Орыся, молча повязала на пегие свои волосики платочек, синенький скромный, собрала вещи, взяла сына Эдика своего щипастого за руку и пошла со двора. К маме.
Филюнин поехал куда-то в областной центр и привез экстрасенса, мать Афинарину, полную такую даму, в длинном синем пальто, в многочисленных косах разноцветных по всей голове, с жирно подведенными черным глазами, ногтями длинными кроваво-красными, острыми. И с филином на плече. Или совой. Живой. У забора опять собрались зрители, а тут батюшка с матушкой, как будто мимо проходя, густо плюнули Филюнину и Афинарине под ноги.
– Я, – сказала Афинарина, – «Битву экстрасенсов» выиграла, поняли? – обратилась она к Филюнину и ко всем вокруг, кто собрался. – У меня уже уровень в шоу-бизнесе. Я известная телезвезда. Так что гроши вперед!
Что она там делала, как плясала, крючки железные крутила в руках, дула во все стороны, карты раскидывала, топала, головой мотая и закатывая глаза, колокольцами бренчала и орала на кого-то невидимого, ножом в воздух тыкала! Ну кино, одним словом. Сова ее или кто совсем перепугалось, ухало, ойкало и везде со страху напачкало. А Филюнин, люди говорили, чтоб расплатиться с Афинариной, последнее из дому вынес и даже бегал одалживать по соседям, но мало кто ему дал, потому что злились все на его безнравственный характер и плохое поведение.
Короче, телезвезда денег много взяла, но не помогла. Дом дрожал по ночам, а то и днем, если прислушаться, по-прежнему. («Ветер-то осенний – это ж не легкий летний бриз, – ухмылялся Грыгоровыч. – Бывает, и сутками дует».) Люди к Филюнину, кто посмелей, приходили специально, как на экскурсию, – послушать, но удирали, крестясь. Голоса выли по всей хате. И еще казалось, особенно по ночам, что кто-то ходит и скрипит половицами. Филюнин перебрался в летнюю кухню. Похудел, сдал, пить не помогало, короче, не жизнь.
*
– Ну шо, – хлопнул себя по коленям Грыгоровыч, – а теперь можно и мне, – встал и вразвалочку пошел на территорию неприятеля.
– Здоров, Филюнин. У тебя, я слышал, проблемы, не?
Филюнин сидел хмурый, небритый, страшный от недосыпа. Посмотрел красными глазами, отмахнулся слабо, не ответил.
– Так это… Брат у меня родной в горах живет. Тоже Грыгоровыч называется. Знахарь он, травки всякие знает, мед опять же. Но и другое может.Можэ, вызвать його? Хотя он не всегда соглашается. Не любит он этого. Но я можу поговорыть.
И тут Филюнин всхлипнул, взрыднул, всплеснул ладошками, съехал спиной с лавки, грохнулся в пыль на колени и заголосил:
– Вызови, Грыгоровыч! Умоли брата сваёва, все отдам. Хочешь – бери сколько надо метров вдоль, сажай что хочешь, хоть малину, хоть смородину, хоть что. Бери хоть весь двор. Помоги! Жизни нема-а-а!
– Так. Ладно. Ты, Филюнин, удались куда-нибудь на сутки. Чтоб тебя тут не было. И всем скажи, иначе не поможет. Брат мой зрителей ох как не любит, может повернуться и уехать. Понял?
– Понял, понял, – утирая слезы рукавом, шмыгая носом и суетливо подымаясь, ответил Филюнин, – все понял. Все сделаю. Все!
Филюнин за секунду убрался к теще своей. А Грыгоровыча брат, который тоже Грыгоровыч, для виду походил вокруг хаты, а потом залез на крышу, опять же для виду помотал там букетом сена, даже дым развел, чтобы любопытные соседи меньше видели, что происходит. Ну и вытащил бутылку из дымохода. А кирпичик на место установил. И заштукатурил быстро и аккуратно.
Денег Грыгоровыч, брат Грыгоровыча, не взял.
*
А Филюнин теперь – тихий. Как Грыгоровыч выйдет на крыльцо – кланяется в пояс. Не ябедничает. Нет, ну бывает, понесет его леший к участковому, натура, что сделаешь? Так участковый ему:
– Филю-у-у-унин!
И Филюнин все понимает, замолкает, успокаивается.
И мир, и покой, и тишина.
«Шутки господни неисповедимы...»

С Марианной Гончаровой беседует Марина Теплицкая
– С чего начнем?
– С чего угодно. Главное – чтоб не о политике!
– Договорились. Помните ли вы свои первые написанные строки? Что послужило причиной их появления?
– Да, припоминаю... Мне было не больше пяти, а рядом с нашим домом шла стройка, где лежала огромная бетонная панель. По крайней мере, так называли эту плиту взрослые, и мне это слово очень нравилось. Мы с подружками воображали, что это сцена, и устраивали там представления. Так вот, первые строки были такими: «Мама и папа! Ключ под ковриком. Я на панели. Не волнуйтесь».
Пока была маленькая, ничего больше не писала. Некогда было: первый класс, музыкальная школа, балет, книги… Ой, книги!!! Особенно те, на верхних полках, под грифом это-тебе-ещё-рано. Конечно, когда родителей не было дома, я ставила детский столик, на него стул, забиралась к запрещенным полкам и выковыривала те самые. Я часто болела ангинами и лежала с книгой – вот было счастье!..
Потом, конечно, что-то писала – в прошлой жизни. Пьесы, сценарии капустников... Словом, долго и продолжительно хворала графоманией.
– Роль юмора в вашем детстве? В семье?
– Юмор в семье? Да это был основной принцип воспитания! Юмор, игра и книги. Родители нам устраивали такие замечательные праздники… Например, в день рождения сестры они превратили квартиру в пиратскую шхуну и всем нашим друзьям разослали приглашения: «Пират Вася, ждем тебя на шхуне «Веселый Роджерс», когда склянки пробьют шесть. Опоздавших – на рею! Люди капитана Флинта». Мама была в капитанской фуражке и кителе, папа – в тельняшке и пиратской повязке, и весь вечер говорил хриплым стр-р-рашным голосом и хромал, словно у него деревянная нога.
Наши два традиционных семейных праздника, кроме дней рождения, это «день Си» – в начале мая, когда распускается сирень, и «день Ч» – осенью, когда уже шуршат листья, когда «оЧей оЧарованье».
В канун нового 2006 года родители повесили доску почета «Ими гордится наша семья» – с единственной фотографией (хотя нас в семье много). Это была фотография благороднейшего, умнейшего, интеллигентнейшего человека – Чака Гордона Барнса, нашей собаки.
– Вы пишете веселые рассказы о животных. А есть ли у животных чувство юмора?
– Думаю, чувство юмора – это только человеческое. Ну а поскольку моя собака – замечательный человек, и мой кот – тоже парень хоть куда, и собаки и коты Наташи Хаткиной, и кот Сережи Сатина, и такса Михаила Яснова, и кошечка Валерия Хаита, нашего редактора, – они все очень приличные и очень разумные люди, то у них чувство юмора точно есть. По крайней мере, частенько они ужасно веселят тех, с кем имеют терпение и мужество жить рядом.
Знаете, среди животных встречаются такие удивительные персонажи, каждый со своим характером. Вот, например, в бердянском зоопарке (мы в этом городе недавно отдыхали) есть два медвежонка-подростка. Один – эстет, любуется небом, зеленью, играет, купается в бассейне, лазает по деревьям, катается на качелях, кувыркается на потеху ротозеям. Второй – ест. Основательно, ответственно, серьезно, аккуратно. Пакует в животик, как в чемодан. Выпрашивает у посетителей яблоки и печенье, в благодарность кланяется, мотает продувной своей башкой: мол, чтоб у вас, гражданочка, ручки не болели мне печенье давать, – и чавкает уморительно…
А ещё недавно я познакомилась с пони, которая плакала по пустякам. Жуликоватая девица, скажу я вам. Топает с пассажиром по намеченному маршруту. Естественно, рядом трусит кто-то из родителей пассажира. Пони (Шелли её зовут) сворачивает с пути и прямым ходом, ускорив шаг, валит к киоску, где продают хот-дог. Станет там с видом «сами мы не местные», ножки растопырит, смешная и трогательная. И попробуй не купи ей булочку! Продавец подсказывает: она без сосиски любит. И без кетчупа. Не купишь – глаза её лиловые скорбные наливаются слезами, голову опустит, слезы текут... А ещё карамельки любит. Плюшевая такая, теплая… А жизнь несладкая – по жаре каждый день по кругу болтаться. Я бы не смогла. Скучно.
– Вы печатаетесь в юмористическом журнале. Не смущает вас это? Не обидно, когда ваши тексты относят к юмористическому жанру?
– Александр Ширвиндт как-то сказал, что юмор и смех – это понятия разные. Не всегда юмор – когда смеются, не всегда смех – это юмор. Мне кажется, юмор – это как музыкальный слух. Это дар. Это особое чуткое отношение к жизни. Это чистый звук. И как ни странно, уважение и достоинство. Это ведь не надписи на заборах. И не массированный консервированный изнуряющий смех с экранов и концертных площадок, который наступает на тебя, как армия индийских боевых слонов. Юмор нужен, как писал Сергей Довлатов, чтобы уберечься от распада. Так что вспомним и Шолом-Алейхема: расправим лица, господа, и сделаем их приятными для взгляда… Вот юмор. Прочтешь – и душа играет. Как говорил мой сын в детстве: «В горлышке щекотится счастье». И если кто-то относит мои тексты к этому жанру, я могу только гордиться…
– Вы хорошо знаете английский. Говорят о так называемом английском юморе. В чем все-таки его отличие от нашего?
– Мне кажется, что английский юмор – это миф. Я работала переводчиком в Великобритании и у нас в стране с британцами и американцами. Очень-очень тяжелая работа. Но интересно. И сколько сюжетов! Так вот, в Англии я слышала и тонкие забавные шутки, и скабрезные анекдоты. Все ведь от людей зависит. И образование и положение в обществе здесь не определяющие. Помню, как-то на званом обеде, где гостей рассаживали по протоколу, член британского парламента лорд В., рядом с которым меня посадили в качестве толмача, воровато – шлеп! шлеп! – похлопал меня влажной, как сырая котлета, ладонью по коленке. И увидев мое вытянутое побледневшее лицо, быстренько, оправдываясь, вякнул: «Just kidding! Just kidding!» – мол, шутка, шутка. Так спрошу я вас: это английский юмор?
Или вот говорят, что немцы лишены чувства юмора. А я недавно слушала лекцию по аэродинамике, которую читал старшеклассникам преподаватель из немецкой школы DLR. Обаятельный улыбчивый, он сразу расположил к себе. Начал он так: «Если уронить кошку, она падает на четыре лапы. Если уронить бутерброд, он падает маслом вниз. А если привязать бутерброд маслом вверх… к спине кошки?» Представляете? Он ведь не только дает знание предмета – он воспитывает свободу мышления, поиска, развивает фантазию. И, между прочим, немец.
Нет, юмор – это вненациональное.
– Вы живете в Карпатах. Речки, горы, леса. Есть ли в природе юмор? Или это только человеческое? Зависит ли наличие чувства юмора от места проживания? Встречали ли вы по-настоящему остроумных людей в сельской местности? Или юмор – это все-таки городское?
– Мы живем в Прикарпатье. А точнее – на Буковине. Я очень люблю Черновцы. Хотя сейчас говорят, что моя русскоязычность несовместима с любовью к Родине и нужен особый сертификат – знание мовы. Да знаю, знаю я украинский язык. И говорю лучше, нежели те, кто за него ратует… Мы с мужем и дочкой проехали этим летом большую часть Украины – от Карпат до Азовского моря, через Винницу, Днепропетровск, Запорожье. Какая красивая и богатая страна! И – какая безалаберность, невнимание и расточительство!.. Грустно все это, приводит в смятение… Стоп! Мы ведь договаривались – о политике ни слова!
Юмор природы? Говорят, природа бесстрастна. А шутки Господни неисповедимы…
Юмор в селе, юмор в городе? Не знаю. Пожалуй, нет разницы. Чувство юмора – это особый дар и особая степень внутренней свободы. Такие люди есть везде. Бог, как говорят, он по лицам расписан…
А вот юмор в горах – особого жанра. Гуцульские умельцы в четырех строчках коломийки или «соромицької пісні» рифмуют дивные сюжеты из нелегкой жизни карпатских народов. Эти песенки – тонкие, острые и перченые. И так переплетено, так искусно – чистый бисерный гердан: такое гуцульское ожерелье, где много цветов, сотни бисеринок, а ничего лишнего, ни одной не выбросишь.
– Чего хочется? О чем мечтается?
– Мы с мужем и дочкой на отдыхе в Бердянске решили убирать свою планету. Не всю. Сначала на ограниченной территории – вокруг себя. Заразили этим новых друзей… У нас на пляже была знакомая урна. Так мы всех с ней познакомили. Дочка от всего сердца как-то прикрикнула на мальчишку: «Не плюй на Родину!» Лозунг она сама изобрела.
Вот: хочется, чтоб было чисто. Чтоб вставать утром и убирать свою планету. И чтоб не мешали это делать.
В этом году у нас были сильные наводнения. Наш дом стоит у реки. Не сплю которую ночь, шум и возня под окнами – там наши мужчины срывают небольшую дамбу-мост, чтобы вода вошла в русло и не залила наш небольшой квартал. И вдруг подъехала машина, кто-то крикнул, какой-то грохот… Я открыла дверь: что случилось?! А в ответ суровая деловитая команда (спасатели из МЧС приехали): «Не беспокоиться! Свои!» Я успокоилась и уснула.
Хотелось бы, чтоб всегда так. Чтоб не беспокоиться. И чтоб вокруг – свои.
2006 г.
Кофе по-венски

И в завершение – уникальное видео:
Марианна читает рассказ «Кофе по-венски»
Видео с YouTube-канала Юрия Григоряка





