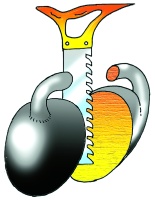Нам не дано предугадать...
В 1983 году по картофельному полю Страны Советов – нечерноземной Брянской области державной поступью раскатывался славный юбилей – 180-летие со дня рождения великого поэта Тютчева. Не то чтоб Федор Иванович приходился трудолюбивым брянчанам полным земляком, но все же старинное родовое именьице дворян Тютчевых находилось в Овстуге, а это как раз посреди вышеупомянутого поля. Трубили фанфары, местные красавицы в стандартных кокошниках подносили, низко кланяясь, хлеб-соль московским секретарям Союза писателей. Завершалось все «гала-концертом» в областном драмтеатре, и там-то, привычно оседлав трибуну под люстрой, первый секретарь обкома, обладавший экстерьером заботливо раскормленного бугая, кинул в зал:
– А вы, наверное, думаете, что я Тютчева не знаю? Да мне у него многое нравится, особенно вот это вот:
Нам не надо предугадать,
Как наше слово отзовется...
Эту смелую трактовку гениальных строк мне сообщили лишь впоследствии, в аккурат в этот день я трясся по ухабам в стареньком «Пазике». Содержимым автобуса были: Танечка, Катенька и Раиса Петровна – три библиотекарши, я – молодой в ту пору врач, распределенный в Брянскую область и прибившийся к их библиотеке в поисках интеллигентного общения, а также передвижная выставка, именовавшаяся не без изящества «Ф. И. Тютчев и Брянщина». Наш путь лежал в село Шеломы, известное как ударная стройка российского Нечерноземья. Не по дням, а по часам воздвигался Шеломовский свиноводческий комплекс. Счет пестуемым в нем свиноматкам пошел уже на многие тысячи. И когда в библиотеку позвонили с просьбой рассказать о Тютчеве строителям хрюшкооткормочных палаццо, девушки согласились мгновенно. После неустанной пропаганды супербестселлеров той эпохи: «Целины», «Малой Земли» и «Возрождения» Тютчев внес в их профессиональную деятельность элемент приятного разнообразия. Меня же пригласили «для укрепления состава» в качестве чтеца-декламатора.
Я был несколько смущен спецификой будущей аудитории. По слухам, на «комсомольской» стройке в Шеломах трудились в основном приговоренные к исправительным работам. Очень хотелось растопить загубленные души, пожечь, так сказать, глаголом закореневшие в грехе сердца. Но не вполне понятно было, как это, собственно, сделать.
В сельском клубе царил густой запах «Беломора», причудливо сочетавшийся с ароматами пропотевших телогреек. Мужики неторопливо сосали пивко «из горла», откашливали из легких табачный дым, говорили друг другу: «очко» и «перебор», скептическим глазом косили на моих субтильных библиотекарш. В первых рядах сидели женщины, чей внешний облик складывался из мохеровых кофт, кирзовых сапог и татуировок на фалангах пальцев. Изрядно оробевшие Танечка, Катенька и Раиса Петровна тоненькими голосами рассказывали биографию Тютчева, демонстрировали фотографии помещичьей усадьбы, пытались что-то сообщить о последних литературоведческих находках. Аудитория молчала загадочно, чтобы не сказать зловеще. Пришел и мой черед топать на сцену. Отступать было некуда.
Теперь я думаю, что мое повествование о любви пожилого Тютчева и юной Елены Александровны Денисьевой было своего рода мостиком от делавших тогда сумасшедшие сборы индийских фильмов к еще только предстоявшему нашему народу мексиканскому сериальному мылу. По прошествии стольких лет могу честно сознаться: я расчетливо и целеустремленно выжимал слезу из моих слушателей. Голос мой выделывал невообразимые крещендо, взмывал в поднебесье и падал вниз подстреленной птицей. Уже через пять минут на лицах слушательниц в первых рядах отчетливо просматривались струйки потекшей туши. А уж когда хрупкая Елена Александровна заболела неизлечимой чахоткой, оживились и мужики. С чем, с чем, а с открытой формой туберкулеза они были знакомы не понаслышке. Денисьева скончалась. Тютчев безутешно тосковал:
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?
Вероятно, в этот день исполняемый мной «жестокий романс» мог бы иметь определенный успех и в настоящей зоне. Когда же голос фальшиво завибрировал на строчках:
Ангел мой! Где б души ни витали –
Ангел мой, ты видишь ли меня? –
из первых рядов раздались отчетливые подвывания и всхлипы. Все было кончено. Мы с Тютчевым победили. Если бы тогда я прочел в Шеломах «Москву кабацкую» Есенина или даже «Луку Мудищева» – и им бы не под силу было перешибить «Денисьевский цикл» Федора Ивановича.
Такого успеха я никогда не имел, ни до, ни после вечера в селе Шеломы. Конечно, сравнивать не с чем – обычно интеллигентская аудитория поэтических вечеров ведет себя несколько по-другому. Она не станет так бешено аплодировать, свистеть в два пальца, отчаянно бухать сапогами по дощатому полу, истошно орать: «Молоток! Ешшо давай!» Танечка, Катенька, Раиса Петровна и я кланялись попеременно, наподобие китайских болванчиков. «Приезжайте к нам ешшо!» – требовали из зала. Танечка, прижав руки к груди, лепетала растерянно: «Обязательно приедем! Обязательно! Мы же не знали... Если бы мы знали, что вы нас так встречать будете...»
Ответом ей была фраза, до сих пор стоящая в моих ушах. В последнем ряду какой-то сизый и опухший алкаш в шинели без знаков различия простер ко мне руку жестом императора Нерона и хрипло прокричал: «Да хто бы его, б..., Тютчева этого ваще бы знал, если бы не вы?!»
Тютчевский вечер в Шеломах впоследствии удостоился заметки в районной газете «Маяк». Называлась заметка грандиозно: «На вечер собрались все свиноводы». Прочитав заголовок, мой приятель, большой эстет, развеселился и сказал: «Господи! Ну кто, кроме тебя, мог бы вот так собрать на свой вечер решительно всех свиноводов? Рихтер? Ростропович?»
Я до сих пор не знаю ответа на его вопрос. Я могу лишь только про себя повторять и повторять Тютчева:
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...