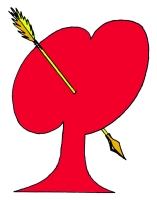Валентин Крапива: Звездный час Васи Севастьянова
Меня всегда удивляет не одобрительный взгляд некоторых людей на те времена, когда всех нас направляла родная, как ей казалось, коммунистическая партия. Да, времена были не лучшие, но зато мы не скучали. Сколько было неожиданных идей!.. Не хмурьте брови, а лучше послушайте одну историю.
Однажды кому-то на партийном Олимпе вдруг показалось, что наше искусство катится куда-то не туда. Тут же нашли крайнего. Точнее, крайних. «Это интеллигенция его не туда толкает, – прозвучало с высоких трибун. – Нет, вы только подумайте: окопались в театрах и союзах. Но как же далеки они от народа! Невооруженным глазом видно: не пополняются их затхлые творческие ряды лучшими народными представителями». Тут же полетели директивы в театры и союзы: «Доложить, что сделано для пополнения и исправления!»
Пошли заседания. На экстренном совещании в Одесском театре оперы и балета дирекция была просто в отчаянии. Ни в опере, ни в балете пролетариату взяться было неоткуда. Трясущиеся руки руководства уже потянулись к нагрудным карманам, чтобы положить на стол партийные билеты. И вдруг главный администратор театра Мирон Соломонович Аранович произнес историческую фразу:
– Коллеги, не с нашим счастьем (фамилии коллег были Блох, Пинский, Брусин, Сипитинер, и понятно, на какое счастье намекал Аранович) игнорировать такое важное и своевременное постановление партии. Нас просят повысить процент представителей народа в творческих рядах. Пожалуйста! Но что мы сразу хватаемся за оперу и балет? Давайте начнем с миманса.
Загадочное театральное слово «миманс» расшифровывалось не менее загадочно – мимический ансамбль. По сути, это были обычные статисты, которые за рубль выходили постоять где-нибудь у пятой колонны с картонным подносом.
– Ой, – всплеснула руками инспектор миманса, – у меня как раз есть очень перспективный парень, Вася Севастьянов. Во-первых, сразу видно, что он из народа, и, что особенно удачно, он кандидат в члены КПСС.
Вася Севастьянов по всем параметрам подходил для серьезного партийного задания. Он был точно не интеллигент, причем с первого же взгляда это сильно бросалось в глаза. Кроме того, он приехал учиться в одесское медицинское училище из крепкого села, о чем говорила его неповторимая улыбка, которой бы позавидовал сам Фернандель, хотя бы потому, что у Васи, в отличие от французского комика, все зубы были золотыми. Но главное, за что тайно ценило Васю начальство, – отрабатывая партийный стаж, он постоянно на всех стучал.
– Они хотят увидеть своего выдвиженца на сцене – так вот же он! – резюмировал Аранович. – Дайте этому Севастьянову в субботу дебют в «Демоне». Там есть изумительная роль: надо убить князя Синодала. Ни у нас, ни у него промаха не будет – нашим тенорам давно пора на диету.
В опере Рубинштейна «Демон» действительно было где отличиться такому, как Вася Севастьянов. Согласно либретто в конце первого акта на лагерь гордого грузинского князя Синодала нападали подлые разбойники-курды. Их предводитель в жестоком бою и закалывал князя. Роль считалась важной, ибо во втором акте, когда приносили бездыханное тело Синодала в дом его красавицы невесты Тамары, с этого покойничка и закручивалась вся дальнейшая интрига.
Итак, Васе Севастьянову было доверено, во-первых, воплотить важную партийную установку, а во-вторых, своим народным гением оплодотворить пошатнувшееся искусство. По такому случаю в день Васиного триумфа даже была назначена специальная репетиция.
Князя Синодала пел Николай Губрий. Не знаю, чего там намудрила мать-природа, но оперные тенора в большинстве своем по тучности не уступают великому Паваротти, а Коля был еще и на две головы ниже. Это был добродушный шарик, при этом поющий довольно приятным тенором.
– Что тут репетировать? – недоумевал он. – Рубимся на саблях. Ты… Как тебя зовут? Вася?.. Хм, бывает… Ты, Вася, загоняешь меня на скалу, и когда я тебе подмигну, аккуратно закалываешь. Только не промахнись, а то… Как тебя зовут?.. Вася?.. Бывает!.. А то, Вася, сам будешь костюм штопать. Усложнять бой не стоит – только верхние удары, такие простые «двоечки». Тебе… Как тебя зовут? Ах да, Вася... Надо же!.. Тебе, Вася, все ясно?
То ли Вася был уже упоен близящимся триумфом, то ли в ту минуту его крепкий крестьянский ум был сориентирован на более земные задачи, но жестом Мефистофеля он показал – дескать, все будет тип-топ, подкрепив жест золотозубой мефистофельской же улыбкой.
Ну а вечером...
Вначале ничто триумфа не предвещало. Демон, сидя вдали на скале, плел свои интриги. Губрий гнул свою жениховскую линию, хор с тупым выражением безразличия пел, как все это его волнует. Но постепенно на мирные кавказские долины опустилась немирная ночь. Где-то уже затаились террористы-курды. Дирижер Давид Сипитинер начал умело нагнетать в оркестре ощущение приближающейся беды. И она пришла. Но не в лице курдов, куда им, а в лице Васи Севастьянова.
Когда он явился перед публикой, вооруженный до своих золотых зубов, все напряглись. Такого экстаза эта академическая сцена еще не знала. Куда там ярость Отелло или страсти Риголетто! Это был Вася, который рвался погреться в лучах славы. Он с таким неистовством бросился на князя, словно это было партийное поручение. У Губрия даже вырвалось восхищенное: «Эх, хо-ро-шо!!!» Что вам сказать, то был вдохновенный бой. Князь и курд бились страстно, упоенно. Только один в этом упоении забыл об уговоре, а второй в той страсти не способен был ничего замечать. Короче, вместо «верхних двоек» князь сделал один удар низом. Любой на месте Васи подставил бы свою саблю и взял защиту, но Васе было не до таких мелочей. И князь таки попал.
Причем, если бы удар пришелся по Васиной крепкой голове, все бы обошлось. Но удар пришелся ниже пояса, в то место, которое футболисты старательно прикрывают при штрафном ударе. А Вася не прикрыл. Он положил саблю на пол, молитвенно сложил руки, но не на груди, а сильно ниже, и, сев на пол, стал подвывать, как Белый Клык, потерявший хозяина.
Коля Губрий вначале ничего не понял. Как истинный артист, он продолжал жить в образе. Он подбежал к Васе и стал показывать: вставай, подлый трус! Куда там – как буддийский монах, Вася был сосредоточен, причем сосредоточен на таком месте, от которого лучше не отвлекать.
А в это время нарастало напряжение в оркестре. Я не имею в виду музыку. Дирижер Сипитинер, кажется, первым понял, что давать коду на опускание занавеса еще ой как рано. Плюнув на Рубинштейна, который наверняка уже переворачивался в гробу, он снизил темп вдвое, чтобы выгадать время.
Тут все понял и Коля Губрий. Он стрелой понесся в кулису на совет к режиссеру, ведущему спектакль. Там он страстно зашипел:
– Петрович, лажа! Чего делать?
Петрович, ветеран театрального движения, и сам видел, что лажа, но не потерял самообладания и зашипел в княжеское ухо:
– Дуй на скалу! Я сейчас выстрелю. Хватайся за что попало и умирай.
– Я побежал! – как-то очень не по-грузински заверещал Синодал, хотя для кругленького Губрия уместнее бы звучало «я покатился».
И вот князь на скале. Взор его пылает. Он вскидывает трагически руки, словно что-то предчувствуя. Еще секунда… А в кулисе тишина. Но не на того напали курды, ох, не на того! Синодал в исступлении рвет на себе волосы, губя персональный парик, и все понимают: ох, сидеть Тамаре в девках, еще как сидеть!.. А из кулис доносится только какое-то жалкое «цок-цок». Ну, поленились реквизиторы зарядить в массивное устройство для пальбы пороховые пистоны. Ну, поцокал ведущий режиссер молотком по пустым зарядам и плюнул в сердцах: «В стране бардак – и в театре не лучше!»
А Сипитинер уже не дирижировал, он обреченными взмахами дирижерской палочки извлекал из оркестра по одному звуку в пять секунд. Даже печальный Демон, дух изгнанья, следивший с дальней скалы за всем этим бардаком, как-то скукожился, вмиг сделавшись еще печальней, потому что понял: не вершить ему своих темных дел – за него это уже сделал Вася.
Не сдавался один Губрий. Плюнув на Станиславского, он метался из кулисы в кулису, ища спасительной смерти. Рушились великие замыслы, причем сразу и Лермонтова, и Рубинштейна. Позарез нужен труп князя Синодала – без покойничка можно было и не начинать второй акт. Кто-кто, а Губрий хорошо знал музыку: в партитуре оставались уже считанные ноты. И тогда он решился на страшное: взбежав на скалу, приставил к груди кинжал (как-никак грузин) и с отчаянием воткнул его себе под мышку.
Дэвик Сипитинер последний раз взмахнул палочкой, оркестр издал какой-то обреченный аккорд, похожий на стон. Занавес пал.
За его спасительной спиной остались участники спектакля – все в шоке. Причем шок был уже не от пережитого: по ту сторону занавеса зал разрывался аплодисментами. Никто ничего не понимал. Ветеран театрального движения Петрович на секунду даже отвлекся от мыслей о всеобщем бардаке и благоговейно произнес:
– Вот, господа, ничто не может убить великую магию театра!
Но тягучие минуты тягуче тянулись, а аплодисменты не смолкали. И тогда Коля Губрий отважился просунуть нос в щелку занавеса, и все стало ясно.
Занавес-то опустился. Но на самой авансцене он оставил один на один с публикой народного выдвиженца Васю Севастьянова. Боль утихла, и Вася, поняв, что должен загладить свою вину перед народом, стал раскланиваться.
...Так ли важно, каким образом ты оказался в роли триумфатора? Звездный час выпадает редко, и упустить его нельзя.